Із інтернету
Провокаторы и авантюристы
Andy Fedoroff "Ирония истории "
Виктор Некрасов "Саперлипопет"
Гений зла Сталин
К.Маркс о социальной базе социалистической революции в России
Проти кого був спрямований сталінський удар?
Александр Орлов "Провокация"
Александр Орлов "Вышинский"
Александр Орлов "СЕНСАЦИОННАЯ ПОДОПЛЕКА
ОСУЖДЕНИЯ СТАЛИНА"
Механизм массовых репрессий
Как закончился Третий Московский процесс
Приказы НКВД о репрессировании жен
и размещении детей осужденных "изменников Родины"
Следы кровавых репрессий под Черниговом
Сталин хотел большой и долгой войны
Рыбчинский: Сталин делал все, чтобы Гитлер первым напал на СССР
Корюковская трагедия 1943 года
Сталин назвал его преемником и... расстрелял
Федор Лясс "Сталинская паранойя"
Из книги Анастаса Микояна «Так было»
Из книги Абдурахмана Авторханова «ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА»
Зотин Виктор "Диктатура номенклатуры"
Альберт Эйнштейн "Почему социализм?"
Ха Джун Чхан "23 ТАЙНЫ: то, что вам не расскажут про капитализм"
Райнерт Эрик С. "Как богатые страны стали богатыми,
и почему бедные страны остаются бедными"
Константин Крылов "Генерал золотого карьера"
Почему Америка богаче всех?
Лекция шведского футуролога Кьелла Нордстрема
Пути развития общества
С.Г. Нечаев
Катехизис революционера
Отношение революционера к самому себе
§1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.
§2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить.
§3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения. Для этого и только для этого, он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй медицину. Для этого изучает он денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя, во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.
§4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции.
Безнравственно и преступно все, что мешает ему.
§5. Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки.
§6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.
§7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционерная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.
Отношение революционера к товарищам по революции
§8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционерным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции.
§9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении таким образом решенного плана, каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.
§10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела. Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согласия всего товарищества вполне посвященных, распоряжаться не может.
§11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем — с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу
§12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, товариществом не может быть решено иначе, как единодушно.
§13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего нибудь жаль в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого либо человека, принадлежащего к этому миру, в котором — все и все должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.
§14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все высшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в третье отделение и даже в зимний дворец.
§15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.
§16. При составлении такого списка и для установления вышереченаго порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе.
Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти и полезными, способствуя к возбуждению народного бунта.
Должно руководствоваться мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу.
§17. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.
§18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергиею, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями; опутать их, сбить их с толку, и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и сила сделаются таким образом неистощимой сокровищницею и сильною помощью для разных революционных предприятий.
§19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до нельзя, так чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство.
§20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздноглаголющих кружках и на бумаге.
Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломныя заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.
§21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда.
Один — пустые, бессмысленные и бездушные, которыми можно пользоваться, как третьей и четвертой категорией мужчин.
Другой — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего безфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории.
Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Они нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.
Отношение товарищества к народу
§22. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но, убежденные в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.
§23. Под революцией народной товарищество разумеет не регламентированное движение по западному классическому образу — движение, которое, всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низложением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России.
§24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация без сомнения вырабатывается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.
§25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против торгового мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.
§26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача.
Нечаев не собирался публиковать «Катехизис революционера», более того, он не давал его читать даже самым близким единомышленникам, тем, с кем у него никогда не возникало разногласий. «Если задаться вопросом, — говорил на суде над нечаевцами присяжный поверенный В. Д. Спасович, — почему этот Катехизис, столь старательно составленный, никому не читался, то надо прийти к заключению, что не читался он потому, что если бы читался, то произвел бы самое гадкое впечатление».
Текст «Катехизиса» написан, безусловно, Нечаевым под влиянием трудов Бакунина и Ткачева в апреле-июле 1869 года во время первой эмиграции. На Нечаева оказали существенное влияние его непосредственные предшественники — идеологи тайного общества «Организация» и кружка «Ад», а также роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» с его «новым человеком» Рахметовым.
Провокаторы и авантюристы
Игорь Гарин
21 декабря 2017
Ленинизм начинается с лживых посулов рабочим и крестьянам и далеко не кончается миллионами жертв гражданской войны
Я бы определил главную ложь марксизма как претензию на статус науки. Марксизм, ленинизм, гитлеризм создавались, скорее, как антинауки, нарушающие все мыслимые и немыслимые критерии рациональности, научности и даже выработанной человечеством морали. Идеология Маркса была нацелена не на поиск истины, а на мнимую защиту «интересов пролетариата». Нет, не истины искали марксисты в философии, писал Лосский, а только удобного оружия для достижения своих революционных целей.
Карл Поппер предложил в качестве критерия научности теории возможность ее принципиальной опровержимости. Вопреки этому критерию (или принципу фальсифицируемости Карла Поппера), марксизм изначально создавался как неприступная крепость, не допускал проверку фактами, органически не терпел критики и гневно шельмовал малейшие попытки возражений. По словам Бурова, стиль Маркса не имел ничего общего с научным стилем — это было самоуверенное вещание квази-пророка или демагога.
Само возникновение феноменов познания, не подлежащих критике, — писал крупнейший аналитик науки Пол Фейерабенд, — связано с патологическим складом мышления творцов систем-крепостей. Даже критики марксизма не задавались вопросом, почему «величайшее из учений» одного за другим порождало тиранов, маньяков или властвующих некрофилов. Или — почему история реализации этого учения столь кровава, фанатична, террористична, безжалостна и лжива. Почему из «торжества разума» получилось нескончаемое, длящейся по сей день российское бесовство?
Главными аргументами Маркса были не доказательства, а социальные пророчества, свойственные мессианскому сознанию. В «Открытом обществе» Карл Поппер на многих примерах показал, что капитализм в том смысле, в каком употреблял этот термин Маркс, нигде и никогда не существовал, впрочем, как и прекрасный социализм, который он предсказывал. В сущности своей марксизм — это бесконечный набор штампов и догм, самопротиворечивых и противоречащих реальной действительности.
О ненаучности учения Маркса свидетельствует хотя бы тот факт, что основные понятия его идеологии, такие как «класс» или «товар», нигде не определены. Я уж не говорю о том, что как религиозный мессия, он всегда «знал» результат до начала исследования. Претендуя на научный анализ существующего порядка вещей, Маркс постоянно осуждал то, что есть, во имя того, что должно быть. Миропорядок порочен, а правильным он станет лишь тогда, когда человечество прислушается к нему, Марксу.
Пред нами типичный религиозный фанатик, придающий «хитростям» собственного разума наукообразные формы. Марксистская идеология — результат не столько аналитики, сколько ошибочной самоидентификации, неопределенного социального статуса и глобальных претензий, никоим образом не соответствующих ущербным масштабам его личности или ничтожным природным талантам.
Марксизм как «наука» оказался удобным потому, что породил огромный поток идеологических текстов, демагогических обещаний и лозунгов, похожих на науку, но не требующих никакой научной подготовки.
Фарцовщик Маркс не случайно взял на вооружение гегелевскую диалектику — она давала ему жульническую «свободу действий», то бишь позволяла объяснять любые взаимоисключающие действия — «сегодня сжигать то, чему вчера поклонялся». Диалектика Маркса стала надежным фундаментом марксистско-ленинского волюнтаризма и безотказным средством одурманивания масс, причем сам Маркс даже не скрывал диалектического трюкачества. Свидетельство тому — сохранившееся письмо Маркса Энгельсу: «Я вынужден был временно заменять тебя в Tribune в качестве военного корреспондента. Возможно, что я оскандалюсь. В таком случае, на помощь всегда сможет прийти некоторая диалектика. Разумеется, свои утверждения я изложил таким образом, чтобы быть правым также и в противоположном случае».
Маркс даже не пытался скрывать свой макиавеллизм — предостерегал революционеров от великодушия и совестливости, призывал не страшиться жертв, приносимых «во имя прогресса», стал первым «философом» в истории человечества, призвавшим сменить оружие критики на критику оружием. Изначально он опирался не на идею, а на страх: «Если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам».
Революционный терроризм, огненные палаты большевиков — изобретение отнюдь не Ленина, а самого Маркса. Последний так и писал: дабы сократить агонию старого общества и кровавые муки нового, есть только одно средство — революционный террор: скрутить буржуазию в бараний рог, осуществить энергичную революционную диктатуру — это всё не Ленин, это подлинные призывы Маркса. Как и эти: «Кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса». Не случайно еще в студенческие годы к Марксу прилипла характеристика «человека без сердца». История донесла до нас бесконечные жалобы отца на беспутного и жестокого сына. Современники подчеркивали его эгоизм, нарциссизм, желчность, нетерпимость, несправедливость и бестактность. «Теоретик», «гуманист» и «ученый», Маркс был откровенным апологетом насилия, без которого, по его «научному» мнению, невозможно никакое социальное переустройство.
В частной жизни трудно найти человека более буржуазного, чем Маркс с его бюргерским снобизмом, безудержной материальностью и излишествами, духовным сродством с лавочниками Трира. Обличая капитализм, Маркс поигрывал на бирже, а провозглашая коммунистическую мораль, прижил ребенка с собственной служанкой, посадив и ее на содержание своего «друга и соратника» Энгельса. «Великий интернационалист», он всю жизнь гневно клеймил славян, Россию и все русское: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы — Россию. Славянские варвары — природные контрреволюционеры, особенные враги демократии. Поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, предающим революцию, на уничтожение, и беспощадный терроризм».
Друг Всего Человечества был категоричен и нетерпим в общении. Не с него ли брали пример наши вожди, люто ненавидящие соперников и друг друга? О взаимоотношениях наших «кормчих» и «рабов на галерах» прекрасно свидетельствует завещание Ленина. Доведись такое писать Марксу, оно вряд ли бы радикально отличалось от ленинского. О, как прав был Петр Струве, когда писал, что коммунизм суть смесь русской сивухи с пойлом из Маркса.
Впрочем, «лучший ученик» Ленин во всех отношениях многократно превзошел своего учителя в творении как «кровавой науки», так и псевдонауки «массового обмана». Выдавая себя за философа и ученика Маркса, Ленин был откровенным политическим авантюристом, не чурающимся крайних средств для захвата власти и возглавившим кровавое быдло для осуществления своих некрофильских вожделений.
Даже декларативное кредо Марса и Ленина — «главное ввязаться в драку, а там посмотрим» — представляется лозунгом агрессивных гопников и аферистов. Только безграничным авантюризмом можно объяснить осуществленный Лениным большевистский путч. У Ленина не было вооруженных сил (типа многотысячных отрядов СС), его партия представляла собой узкий круг маргиналов, страшно далеких от народа, да и вся его биография до 25 октября 1917 года была непрерывной цепью поражений. Только безбашенным авантюризмом, политической неразборчивостью и дьявольской волей к власти можно объяснить захват большевиками власти в России. Да и диктатуру в стране реализовали уголовники подстать своему вожаку — гопники и бандюганы, бесконечно далекие от пролетариата или народа.
Ленинизм начинается с лживых посулов рабочим и крестьянам и далеко не кончается миллионами жертв гражданской войны. Пресловутый 37-й — закономерный результат политики провокаций, расстрелов и репрессий, начатых Лениным в 17-м, насилия столь явного и вопиющего, что никто даже не пытался особо скрывать красный террор, резню Орджоникидзе в Закавказье или Донбюро на юге Украины, бесчисленные расстрелы мирных жителей во всех местах, куда докатывалась «великая и славная» Красная Армия.
20 февраля 1922 года Ленин давал инструкции наркому юстиции Курскому, требуя не «чрезвычайного, а повседневного и «законного» террора, употребляя привычную для себя терминологию: «усилить репрессии», «карать беспощадно» и «вплоть до расстрела»: «всё это должно вестись систематически, упорно, настойчиво, с обязательной и строгой отчетностью".
Свидетель — Юрий Трифонов: «Зря отмахиваются от пословицы, которая тогда гуляла: лес рубят — щепки летят. Рубили лес мачтовый, строевой. Заодно — подлесок. И всё окрест».
Нет, Ульянов не трансформировался в Ленина, а был им изначально: фанатичным, нетерпимым, беспощадным, параноидально жестоким. И вся «философия» Ленина — идеология террористического заговора, грабежа, насилия, массовых убийств.
А если прикажут солгать, — солги.
А если прикажут убить, — убей.
[Из стихотворения Эдуарда Багрицкого «ТВС», написанном в 1929 году. Явившийся больному и отчаявшемуся автору умерший Феликс Дзержинский говорит ему этими словами про наступающий век].
Своих идей у Ленина было немного. В основном он заимствовал их у Маркса, но — больше — у Луи Огюста Бланки. Фактически он и был беспощадным бланкистом, движимым исключительно похотью властвования, политикой массового насилия и террора. И если он действительно что-то создал или основал, то — политику революционной целесообразности и беззакония. Жестокость и мстительность «великого вождя» перехлестывали любые дьявольские мерки и, дабы хоть как-то скрыть ее, «верные ученики» не решались публиковать тысячи и тысячи документов, только недавно ставших доступными исследователям. Вот только один из этого множества. В записке председателю Реввоенкома Склянскому от августа 1920 г. Ленин ставит следующую задачу: проникнуть в глубь территории Латвии и Эстонии, повесить там 100-1000 чиновников и богачей, кулаков, попов, помещиков, выплатить за каждого повешенного премию по 100000 рублей, а затем «свалить» все преступления на базировавшиеся в Польше белогвардейские части.
Вот ленинское письмо от 11 августа 1918 г, адресованное «товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам»: «Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьём. Образец надо дать.
1) Повесить ( чтобы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.
2) Опубликовать имена.
3) Отнять у них весь хлеб.
4) Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни вёрст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Найдите людей потверже. Ленин».
«Будьте образцово беспощадны», «Поощряйте энергию и массовидность террора», «Террор — это средство убеждения», «Ответить массовыми казнями», «Используйте силу для свирепой и беспощадной расправы», «Тайно подготовить террор: необходимо — срочно», «Расстреливать без суда на месте!», «Расстрелять в административном порядке», «Немедленно расстрелять заложников», «Всё подготовить для сожжения Баку», «Усилить быстроту и силу репрессий!», «Мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора», «Расширить применение расстрела», «Дискутируйте винтовками, а не тезисами», «Учитесь на избиении городовых», «Овладевайте всеми без исключения формами насилия», «Выслать за границу безжалостно», «Мягкость для коммунизма убийственна», «Сгноить в тюрьме!» — вот далеко не самые яростные приказы Ленина исполнителям.
Любое колебание, любой отказ от непреклонности или насилия Ленин считал чертой мелкобуржуазного сознания. Слова «либерал», «конкуренция», «западная свобода» были для него ругательными. Европейцы небезосновательно называли большевиков «ворами» и «разбойниками». Даже анархист Кропоткин не выдержал, в письме к Ленину писал: «Неужели среди вас не нашлось никого, чтобы напомнить, что такие меры, представляющие возврат к худшему времени средневековья и религиозных войн, недостойны людей, взявшихся созидать будущее на коммунистических началах?».
Однажды у Ленина спросили, не будет ли его на смертном одре мучить совесть за миллионы жизней, которыми оплачены революция, голод, гражданская война. Реакция «великого вождя» была неожиданной: долгий с захлебыванием и слезами смех, как смеются в цирке. И затем после вызванной истеричным смехом икоты, отдышки и вытирания слез: «Жизней? Чьих жизней? Жизней классовых врагов?» — И снова долгий, дьявольский, с заиканием, смех.
https://nv.ua/opinion/provokatory-i-avantjuristy-2411940.html
Игорь Иванович Гарин - литературный псевдоним И.И.Папирова, профессора, доктора физико-математических наук, лауреата Государственной премии Украины, известного специалиста в области реакторного и космического материаловедения. Работает в Национальном научном центре Украины "Харьковский физико-технический институт".
И.И.Папиров - автор более 350 монографий и научных работ и 60 авторских свидетельств и патентов в указанной области. В настоящее время успешно работает над созданием перспективных материалов и устройств для онкологии и кардиологии.
Под псевдонимом И.И.Гарин опубликовал десятки книг и сотни статей по философии, религии, психологии, литературоведению, истории культуры.
Andy Fedoroff
Ирония истории. Украина
Никогда ничего не случается просто так. Каждое событие влияет на другое, а результат - это сумма причин, очень разных, которые накладываясь друг на друга дают импульс действия. История - такой потрясающий клубок переплетений, таких взаимодействий, что одно действие может проявиться спустя годы, десятилетия или даже столетия. Сейчас я вам расскажу про один такой пример.
Про Украину.
17 сентября мир отметил печальную дату 80 со дня вторжения СССР в Польшу. Современная рф прилагает колоссальные пропагандистские усилия чтобы размыть правду вокруг начала второй мировой, и у нее есть на то весомые причины.
Но на самом деле эта самая кровавая бойня в истории началась задолго до 40-х или даже 30-х годов ХХ столетия.
Эти вопросы очень подробно раскрыты в замечательных книгах Виктора Суворова. Но однажды, в одной из его книг я встретил цитату Сталина первых дней с начала германского вторжения: "Ленин оставил нам великое наследие, а мы его наследники — все это просрали"
В тот момент у меня возникла мысль, которой хочу с вами поделиться.
________________
Совершенно точно у СССР был Глобальный Стратегический План захвата стран Европы, аннексии их и превращения в советские республики. Для этого надо было:
— Тайно перевооружить Германию. Обучить их вооруженные силы в стесненных условиях Версальского мира. Снабжать необходимыми ресурсами.
— Привести ко власти человека недальновидного и достаточного агрессивного. (Что было реализовано в лице Гитлера).
— С помощью разных рычагов подтолкнуть ледокола-фюрера к войне, которая сметет старый миропорядок.
— Подождать, пока противоборствующие силы в Европе истощат себя в этой войне.
— Появиться на сцене в белом, одним махом убить злодея, спасти несчастные страны от тирана.
— Но перед войной провести тщательную подготовку дома. Зачистить всех потенциально несогласных, малейшую оппозицию вырвать с корнем. Одновременно уничтожив всех провинившихся ранее, стоявших на галочке. Запугать народ, сделав послушным.
— Почистить, обновить Армию.
— Создать в СССР мощнейший ВПК и промышленность, заточенную под войну.
— На месте старой Европы сформировать расширенный СССР, республик эдак из 30-40.
Таков был общий план.
Только это был не План Сталина.
Это был План Ленина.
И я попытался найти этому доказательства.
1. ПОЧЕМУ ИМЕННО СССР?
В второй половине 1922 года в Стране советов полыхала грандиозная битва за верховную власть. Товарищ Сталин против товарища Ленина. Иногда, в самые жаркие моменты схватки Владимира Ульянова периодически хватал удар (всегда очень вовремя для Сталина), который выводил Ильича из борьбы.
Напомню, какая обстановка была на то время в стране: едва-едва закончилась гражданская война, и на этом огромном пространстве существовали относительно независимые республики, среди которых была Закавказская Федеративная Республика. Эта форма существования вызывала серьезные противоречия в Москве — многие были недовольны уступками грузинскому национализму, которые отстаивал Ленин. В очередной момент ослабления Ильича товарищ Сталин решил с этим покончить: все независимые республики должны войти в Российскую Федерацию на правах автономий. Борясь против Ленина он боролся против его идей.
Однако в этой борьбе Ленин взял верх. И СССР был образован именно в форме союза национальных республик. Более того, он решил использовать эпизод "Грузинского дела" против Сталина, обвинив его в страшном для большевика грехе — великорусском шовинизме. Дело группы Мдивани должно было стать оружием в ленинских руках.
Два внезапных приступа в декабре в очередной раз отправляют Ильича в постель. Сталин хочет полностью изолировать вождя от всех: просит ЦК возложить на Генсека (то есть на себя) персональную ответственность за изоляцию Ленина, как в отношении личных контактов с работниками, так и в отношении переписки. Свидания с Лениным запрещаются. До революции Ленин всегда назначал Крупскую секретарем тех политических центров, в курсе деятельности которых он хотел быть. Сталин оказался достойным учеником. Впервые после введения формального надзора особенно активным секретарем Ленина была жена Сталина Аллилуева.
Ученик против Учителя.
Очень много ленинских политических ходов и трюков впоследствии перенял и использовал Коба. Зима 1922/23 годов. Ленин готовится к решающему сражению. Полностью восстановившийся, он очень много работает. Пишет статью с резкой критикой Рабкрина (рабоче-крестьянской инспекции), бывшего наркомата Сталина. Запрашивает документы и материалы комиссии по грузинскому делу — ищет компромат на Сталина. Готовит атаку — или "бомбу", по словам самого Ленина — к предстоящему съезду партии.
На февральском пленуме 12 съезда ВКПб 1923 года победила точка зрения Ленина. Тезисы Сталина пленум отклонил и послал на переработку. Это была промежуточная победа. И начиная с этого момента, тюремный режим, введенный против Ленина по инициативе Сталина, был снят. 5 марта — это день, когда борьба Ленина со Сталиным достигла своей высшей точки, он хочет развить успех и идет в атаку — пишет письмо Сталину, в котором прямо обвиняет того в оскорблении, нанесенном Крупской Сталиным ранее...
И тут что-то происходит. После 6-8 марта 1923 года Ленина больше не существовало как лидера, вождя и пламенного борца. Его постиг странный и страшный удар, полностью его парализовавший и выведший из игры. В этом, конечно, есть мрачная ирония, через 30 лет, 5 марта 1953 года, другой участник этой драмы покинул бренный мир. С чужой помощью, разумеется.
После 5 марта 23-го уже не осталось никого, кто мог бросить вызов новому Вождю Сталину. Схватка двух монстров была в целом завершена.
Но важный момент! После своей победы, Сталин не стал менять устройство СССР, и вопрос преобразования Союза в единое государство типа РСФСР с уничтожением национальных республик больше никогда не поднимал. Хотя именно эта тема едва не стоила ему абсолютно всего. Ленинская идея осталась без изменений.
А потому что страна в форме Советского Союза может запросто принять новых членов — Союз удобная модель для экспансии: "вот смотрите — это у нас национальная республика белорусов, а теперь вы будете национальный республикой поляков, немцев, болгар".
Именно поэтому СССР остался в такой форме, и именно для этого он и задумывался — расширяться и захватывать другие национальные государства. Больше того, в 1941 году в СССР было 16 республик, не 4, с каких начал свой короткий жизненный путь союз.
Итак, первая часть плана. Создать такую форму государства, чтобы в нем уже была заложена возможность экспансионизма. Страна, которая на своем гербе не имела границ. Ленинский план.
2. РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР
В 1920 году Советской Россией был заключен уникальный договор. Едва высохли чернила на подписях закрепляющих Версальского мир, как были налажены контакты большевиков с Веймарской республикой. На основе Рапалльского договора началось долгое военное сотрудничество России и Германии. Первые соглашения по такому сотрудничеству были заключены уже в конце ноября 1922 года между фирмой Юнкерс и советским правительством. В 1924 году через фирму "Метахим" советской промышленностью был принят заказ от рейхсвера на 400 000 снарядов для полевых трехдюймовых орудий...
На основе Рапалльского Договора в СССР были открыты три центра с кодовыми названиями "Липецк", "Кама" и "Томка", где прошли обучение многие военнослужащие рейхсвера.
"Липецк" — авиационная школа.
"Кама" — танковая школа в Казани.
И наиболее засекреченный объект рейхсвера в СССР — "Томка" — центр разработки хим.оружия, под руководством Людвига фон Зихерера.
(С 1926 года химические опыты начались в районе местечка Подосинки, а затем в "Томке". Предприятие располагалось в Самарской области на Волге, недалеко от города Вольска).
Давайте, милые немцы, тренируйтесь, развивайтесь. Надо проклятому Западу отомстить за все унижения. А мы и сами подучимся, военного опыта станем перенимать. Как раз он очень нужен после разгрома Тухачевского под Варшавой в 1920.
Вот что Ленин говорил в сторону Германии, какие крокодильи слезы лил:
"Что такое Версальский договор? Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках, беззащитной жертве. У Германии отняты этими противниками по Версальскому договору все ее колонии."
Следующий пункт Ленинского плана. Поможем взрастить реваншистского монстра.
3. СТРАТЕГ
Долго во власти Ленин не задержался, однако заложил все основы государства и указал все векторы развития на многие десятилетия вперед.
Вот ленинские мысли по НЭПу:
"В погоне за прибылью капиталисты всего мира захотят завоевать советский рынок, ослепленные жаждой наживы, они будут готовы закрыть глаза на нашу действительность, превратиться в глухонемых. Таким путем мы получим от них продукты и деньги, чтобы создать армию, их капиталы доведут ее до совершенства для будущей победоносной атаки против наших же кредиторов. Заставим глухонемых трудиться для их собственного уничтожения, но для этого надо сначала окончательно превратить их в глухонемых" .
И именно западные капиталисты построили в 30-х в СССР огромное количество заводов, фабрик, фактически создали с нуля химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную и металлургическую промышленность!
Сталин взял план Ленина, развил и проработал его до мелочей. Об этом его слова в первые дни германского нападения — мы все просрали, что Ленин нам завещал.
Еще одно подтверждение авторства именно Ленина данного Стратегического плана, я обнаружил в другом, довольно неожиданном месте. В книге замечательного автора, большого знатока СССР, компартии, советской номенклатуры, выдающегося специалиста-кремленолога Абдурахмана Авторханова, книге, которая называется "Дела и дни кремля. От Андропова к Горбачеву". — Париж: Ymca Press. 1986
Цитата:
" ...Так же интенсивно происходит и "экономическая интеграция" "братских стран" с экономикой СССР. По этому поводу на 26 съезде КПСС Брежнев заявляет: "На прошлом съезде мы, как и другие братские партии, выдвинули в качестве первоочередной задачи дальнейшее углубление социалистической интеграции на базе долгосрочных целевых программ... Сейчас эти программы воплощаются в конкретные дела. Интеграция набирает темпы".
Иначе говоря, экономика восточноевропейских стран постепенно, но систематически превращается в интегральную часть советской экономики, что и подготовит окончательное поглощение сателлитов Советским Союзом под маркой создания новой международной социалистической федерации народов СССР и Восточной Европы, как завещал сам Ленин".
Конец цитаты.
_______________
А теперь давайте посмотрим, какими путями мы с вами пришли в сегодняшний день.
Грохнувшаяся под натиском большевиков российская империя впервые в истории высвободила Украину. Судьба УНР, короткая но яркая, своим примером показала как критически важно в самые трудные моменты жизни страны находить консенсус и идти на компромиссы ради будущего. Это был очень нужный опыт для современной Украины.
И если бы не было злого гения Владимира Ленина, то не было бы отдельной союзной республики. Но ни Ленин ни Сталин, который присоединил западноукраинские земли к территории Украины, не думали ни про какую Украину, их планы были куда более масштабные и куда более кровавые. Но фокус в том, что политическая карта Украины, минус Кубань, которая на самом деле была не украинская и не русская, а своя, особая, пусть даже населенная выходцами из украинских земель, — накладывается с небольшими выступами на карту этнического расселения украинцев. То есть государство Украина существует именно в своих границах. Факт!
Само собой, никто в Москве не думал про то, как сделать Украине лучше. Украина за время большевизма заплатила такую огромную цену, какую не платила ни одна современная страна. Причем свою плату за страну мы платим до сих пор! Финальный раунд.
Обратите внимание еще на такой момент. Если бы не было границ республик, а жили мы бы как Харьковская, Белгородская, Черниговская, Полтавская, Киевская области в РСФСР. И совок грохнулся. Где проводить границы, а? Вы представляете какая внутрисоветская гражданская война всех против всех началсь бы? Ленин и Сталин готовили концлагерь для остальной Европы и для этого расчертили страну у себя, но это же обратилось против них. И в нашу пользу. Люблю такую историческую иронию:)
А что если бы не Ельцин, кто-то вместо него, типа путина пришел бы к власти в 93 году или 96 в рашке? Понимаете, у нашей страны было время для укрепления своей идентичности, которого не было у УНР. Как только империя грохнулась, большевики быстро все вернули. А в современности, после 1991 года, прошло достаточно времени, чтобы люди мысленно привыкли, ментально вросли в свою страну. (Многие уехали, да. Те кому страна была чужда). Теперь же, после стольких испытаний, Украина стала очень дорога, люди вкладывают в нее свою любовь, труд и заботу.
И только с таким отношением мы будем успешны как страна и как общество!
Дорогие друзья, поддержите автора
Спасибо вам заранее!
Приватбанк 4149 6293 9850 0645
https://site.ua/andy.fedoroff/22911/?utm_source=facebook&utm_medium=siteua
Виктор Некрасов
Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...
https://www.e-reading.club/book.php?book=127314
(отрывок)
22
Повествование наше развивается по какой-то странной кривой. Скорее, даже зигзагом. Вперёд, назад, в сторону. Никакой стройности, композиции. Вот и сейчас, после Парижа семидесятых годов, откатимся-ка назад, лет этак на тридцать, к концу сороковых годов.
Эйфория послевоенных лет уже на исходе.
Редакция «Знамени» в те годы находилась на улице Станиславского. По-видимому, в помещении бывшего магазина. В просторной его части, где когда-то торговали, был кабинет редактора Всеволода Вишневского. В подсобках — секретарша, машинистка, редакторы. В обычные дни было весело и шумно. Когда приходил редактор, становилось тише. Он садился за большой стол, спиной к окну-витрине, и начинал писать письма, в том числе и сидевшему в соседней комнате Толе Тарасенкову, весёлому своему заму — очевидно, для истории, последнего тома Собрания сочинений — «Переписка». Это была первая редакция журнала, где меня не отвергли.
В 1947 году, на удивление многим, «Окопы» были «лаурированы».
Потом меня все спрашивали:
— Расскажите, как вам вручали премию. Торжественно? В Кремле? Кто?
Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко МХАТовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарём Комитета по Сталинским премиям.
Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходил в студийные ещё годы в надежде попасть на «Турбиных».
— На сегодня контрамарок нет, — сказал Михальский, даже не повернувшись в мою сторону, он говорил с кем-то по телефону.
— Мне не контрамарку, а…
— Билеты в кассе. От двенадцати до пяти…
— Нет… Мне это самое… Как его… Диплом, что ли…
Он мельком взглянул на меня — фамилия? — и, продолжая говорить по телефону, вынул из шкафа две плоские бордовые коробки — большую и маленькую. Из ящика стола папку, из неё лист.— Вот тут, пожалуйста. Распишитесь.
Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой — золотая (так говорили) медалька с профилем вождя.
Беседа по телефону при мне так и не закончилась.
С этого момента, точнее дня — 6 июня 1947 года — все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в свои планы. Делалось это автоматически — раз лауреат, в план, срочно… Следствием этого было то, что в парижском «Фигаро» через много лет сообщено было в статье, посвящённой только что прибывшему эмигранту, — «личный друг Сталина, член ЦК, миллионер в рублях…»
Миллионером не стал, но какие-то деньжата завелись. Членом ЦК, разумеется, никаким не был, а что касается товарища Сталина…
Вот тут-то и подъехал ко мне, обогнув бел-горюч камень, большой чёрный «ЗИС», и выскочивший оттуда моложавый полковник вежливо козырнул:
— Прошу.
— Куда? — опешил я.
— Садитесь, пожалуйста. Рядом с шофёром попрошу.
— А коня?
— Не беспокойтесь, всё будет в порядке.
Я сел, и мы поехали.
О том, что Сталин невелик ростом и конопат, я, конечно, знал. И то, что «курьёзен» и хороший тамада, тоже, со слов четы Корнейчуков. Но то, что он встанет из-за стола и пойдёт тебе навстречу, кто мог это ожидать? А он встал и пошёл навстречу.
— Заходы, заходы, будь дарагым гостэм, — и, взяв под локоток, подвёл к креслу возле своего стола. — Садысь, садысь, сталинградец, потолкуем. Куришь?
Говорил он с акцентом, но небольшим (в дальнейшем читатель пусть сам расцвечивает его речь, я не буду).
Сталин сел за стол, выдвинул ящик, взял оттуда коробку своей знаменитой «Герцеговины Флор», вскрыл её и протянул мне.
— Кури.
Папироса долго не выковыривалась, от волнения дрожали пальцы. Сталин заметил, но ничего не сказал. Только что-то вроде улыбки промелькнуло на его губах.
— Между прочим, почему «Герцеговина Флор» называется? Не знаешь?
Откуда я мог знать? Сам всегда удивлялся этому нелепому не «Герцогиня», а «Герцеговина».
— Тоже не знаешь. Никто не знает. Даже такой умный, как Шкловский, и то не знает. Странно. Очень странно…
Чиркнув спичкой, он долго, попыхивая, прикуривал трубочку, знаменитую свою сталинскую трубочку. Точно как на напельбаумовской фотографии, мелькнуло у меня в голове. Когда-то я был очень поражён, обнаружив её в спальне Твардовского, над самой кроватью. Другая — Бунина, висела над письменным столом. Это странное содружество долго не давало мне покоя.
Прикурив, Сталин откинулся в кресле и стал разглядывать меня.
Было одиннадцать часов утра. Я запомнил это, потому что часы, неизвестно где висевшие, я их так и не обнаружил, очень сухо и по-деловому пробили одиннадцать.
Всё последующее я попытаюсь изложить как можно точнее. Дело нелёгкое, с тех пор прошло не более не менее как тридцать пять лет, какие-то детали стёрлись, но главное не это, главное — количество выпитой водки. А выпито было много. Сначала вино, потом только водка. Меня это несколько удивило — всегда думал, что грузины не очень-то падки на водку.
Учесть надо ещё и то, что рассказчик, как правило, всегда несколько идеализирует, приукрашивает свою роль и поведение в описываемом событии. Вряд ли мне удастся этого избежать, но, понимая всю значительность того, что я сейчас поведаю, постараюсь быть предельно точным.
Какое-то время Сталин, откинувшись в кресле, рассматривал меня.
Мучительно пытаюсь сейчас вспомнить, какое же чувство я испытывал тогда. Первое, что напрашивается, конечно — страх. Перед тобой в кожаном кресле сидит убийца, самый страшный из всех убийц, которых знало человечество. И перед ним ты, один-одинёшенек. В большом пустом кабинете.
Но как ни странно, страха не было. Было что-то другое. Черчилль в своих мемуарах писал, что, готовясь к первой встрече со Сталиным, строго-настрого наказывал себе ни в коем случае не идти первым навстречу. Но достаточно было ему, маленькому седому человеку, показаться в дверях, как какая-то неведомая сила толкнула английского премьер-министра в спину, и он торопливо пересёк весь громадный пустой зал, а Сталин стоял.
Нет, входя в кабинет, я никаких клятв себе не давал. Коленки, правда, малость дрожали, когда сопровождающий меня вежливый полковник сказал, открывая передо мной тяжёлую, обитую кожей, дверь: «Товарищ Сталин вас ждёт», но, кажется мне, вошёл я спокойно, не убыстряя шаг, и вот тут-то Сталин пошёл мне навстречу. И усадил против себя. И угостил «Герцеговиной Флор». И во всём его облике была только приветливость, только доброжелательность. И в памяти моей на миг вспыхнул рассказ одного очень хорошего человека, который ни при каких обстоятельствах не мог соврать. Рассказ Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Сталин тоже как-то вызвал его к себе. Узнать подробности рейса «Малыгина» — Иван Сергеевич принимал в нём участие. Очень понравился ему тогда Сталин. Такой обходительный, любезный, немногословный, внимательно слушал.
Насчёт исходивших от него гипнотических или каких-то других флюидов ничего не могу сказать — думаю, что моя скованность на первых порах (к концу она, увы, исчезла под влиянием винных паров) была бы такой же, сиди я перед Черчиллем или де Голлем. Впрочем, ни тот, ни другой, насколько известно, в лагеря писателей не загоняли — деталь существенная.
Итак, Сталин разглядывал меня. А я его письменный стол. Пытался запомнить предметы на нём — отточенные карандаши в вазочке из уральского камня, маленький самолётик на стальной пружине и большой, зелёный, точно лётное поле, бювар. Потом я поднял глаза, и взгляды наши встретились.
И тут он, молчание несколько затянулось, сказал наконец:
— А я думал, высокий, широкоплечий блондин, а ты вот какой, да ещё с усиками… Так вот, знаешь, чего я тебя пригласил? А? Не знаешь… Со Сталинской премией хочу поздравить! — и неторопливо протянул мне руку.
Я вскочил и, пожалуй, торопливее, чем надо, пожал протянутую ладонь.
— И почему твоя книжка мне понравилась, тоже не знаешь? — Он произнёс это после небольшой паузы, во время которой я чуть не выпалил: «Служу Советскому Союзу!», но вовремя сдержался.
— Задница у меня болит, вот почему. Все её лижут, совсем гладкая стала.
Он рассмеялся, зубы у него были чёрные, некрасивые.
— Совсем как зеркало стала, — он встал и прошёлся по комнате. Роста он оказался не больше моего, пожалуй, даже пониже, но плотнее, покрепче, шире в плечах. — Ты сегодня вечером что делаешь? — спросил, остановившись передо мной. — Может, девушке свидание назначил?
— Никак нет, товарищ Сталин.
— Тогда приглашаю тебя к себе. Премию твою отпразднуем. Винца попьём. У меня хорошее, государевых подвалов. Впоследствии в разговоре он несколько раз вспоминал царя, но всегда говорил «государь». Не царь, не Николашка, не Николай II, а государь. И никакого озлобления. «Слабенький государь был, безвольный, не такой России нужен был…»
— Массандровского винца попробуем. Сохранилось ещё. Кстати, что вы там у себя в Сталинграде пили? А может, не пили, только воевали? Под мудрым сталинским руководством? А?
И опять рассмеялся.
Действительно, «курьёзный», подумал я. Такой приветливый, уютный дедушка. С ухмылочкой, на портреты свои совсем не похож.
Принесли чай. Очень крепкий, в подстаканниках. И вазочку печений. Сталин пил, макая печенье в чай.
Потом в дверях вырос вдруг Поскрёбышев. Внешности у него не было никакой, но по тому, как он беззвучно появился, а потом так же растворился, я понял, что это он.
— Ну, чего возник? — не глядя на него, спросил Сталин.
— Вы, товарищ Сталин, на двенадцать товарищу Гротеволю и немецким товарищам назначили. Ждут в приёмной.
— Назначил, говоришь? Что ж, точность, говорят, вежливость королей. И генсеков тоже. Зови.
И, повернувшись ко мне:
— Немцы, немцы… Фрицы… Вот где они у меня, — он провёл рукой по горлу.
— Сациви любишь?
Я кивнул головой.
— Вечером покушаем. Не оторвёшься.
В дверях появились немецкие товарищи. Сталин раздражённо махнул рукой:
— Да подождите, куда лезете.
Немцы попятились, беззвучно прихлопнув за собой дверь.
— Книжку мне подпиши. Только без всех этих «ах-ах», понял?
23
Никак сейчас не соображу, сколько же мы пропьянствовали тогда. Начали часов в восемь вечера, потом ненадолго разошлись, опять встретились и кончили вечером следующего дня. Когда, в котором часу?
Началось всё в большой столовой, у него на даче, в Кунцеве.
Посторонних никого не было. Я и он.
Подали сациви. Действительно, отличное. И лобио, конечно. И шашлык. Карский.
— Люблю карский, ах, — он причмокнул языком. — А мне всё курицу, курицу…
Он погрозил пальцем уютной, похожей на няню, женщине, которая нам подавала.
— Ещё раз курицу принесёшь, знаешь, куда отправлю?
— Да уж знаю, — проворчала няня.
— То-то же… Так что пить будем, а? «Мукузани» или эту самую, вашу «Московскую»? Ты кем в армии был?
— Капитаном.
— Ай-ай, плохо, значит, воевал, не дотянул даже до майора? В твоём возрасте покойный Якир знаешь, кем был? Командовал Украинским военным округом. Командарма первого ранга вскоре получил. А ты… Ну да ладно.
Он разлил вино по стаканам.
— Ну, что? За того, который до победы довёл?
И посмотрел на меня хитрым взглядом.
— А может, есть другие предложения?
Я что-то провякал, вроде «что вы, что вы»…
Выпили.
— Да, погорячился я тогда, погорячился… Будённый, Тимошенко, мудило этот Ворошилов, первый красный офицер… Им-то и с батальоном не справиться, а я им, дурак, фронты поручил…
И заговорил о первых месяцах войны. И то не так, и это не так, и зачем долговременную линию обороны на старой границе взорвали.
— Жуков, Жуков во всём и виноват, начальник Генштаба. Он в ответе…
Меня, конечно же, распирало от желания задать тысячу вопросов. Но пока воздерживался, боязно было.
В середине разговора Сталин вдруг крикнул:
— Э-э! Кто там есть?
В дверях безмолвно вытянулся немолодой полковник.
— Скажи там кому надо, что завтра у товарища Сталина выходной.
— Есть сказать, что товарищ Сталин завтра выходной! — полковник лихо козырнул и исчез.
— На охоту завтра полетим. В Беловежскую Пущу. Не бывал? Там ещё зубры есть. Или как их теперь, зубробизоны называют…
В жизни я никогда не охотился. Это всегда огорчало Ивана Сергеевича, страстного охотника, охотника-поэта. «Единственное, что нас с вами разъединяет, — говорил он. — Будь вы охотником, мы бы с вами…» — и никогда не договаривал… И вот, пожалуйста, первый раз в жизни в Беловежской Пуще, и не с Иваном Сергеевичем… Никогда б не простил.
После второй бутылки «Мукузани» речь зашла о литературе, писателях.
— Все прохиндеи. Все! Как один. С этим пьяницей во главе, Фадеевым… Вот Платонов, то был писатель. Божьей милостью. Ругал я его, правда, было за что, но писать умел. Или Булгаков… Видал во МХАТе «Дни Турбиных»? Я раз десять, а то и больше…
Потроша папиросы, стал набивать трубку.
— Вот это офицеры были, м-да, настоящие офицеры. Всё вокруг рушится, большевики прут, а они присяге не изменяют. Молодцы! Приятно смотреть… Спички есть?
Я подал коробок. Он закурил, сделал несколько затяжек.
— А тут окружён со всех сторон всякими там… Никому не веришь! За полушку продадут.
Он встал, прошёлся по комнате. Она была большая и пустая. Обеденный стол, вокруг стулья. У стенки то ли диван, то ли тахта, то, что у нас в Киеве называлось «боженковская» — продукция мебельной фабрики имени Боженко. Над столом трёхсотсвечная лампочка под розовым абажуром с бахромой.
Сталин походил, походил, сел, разлил вино.
— По последней, завтра рано вставать, — и опять крикнул: — Эй!
Вырос полковник. Сталин отдал распоряжение о самолёте и чтоб разбудили не позже семи. Вздохнул.
— Плохо с писателями, плохо. Хороших пересажал, а новые — куда им до тех. Ну зачем, спрашивается, Бабеля сгноили? В угоду этой самой дубине усатой, Будённому? Обиделся, понимаешь, за свою Первую Конную. Оболгали, мол… А вот и не оболгали! — И вдруг без всякого перехода: — А может, подкрутить всё же писателей? Дать команду Жданову… А?
Он посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом, потом махнул рукой.
— Ладно, утро вечера мудренее. Отбой.
Неторопливо, вразвалочку, направился к дверям. Взявшись за ручку, обернулся и сказал на прощание:
— А писатели наши — дерьмо! Не обижайся, но дерьмо…
И вышел.
24
Всю ночь я ворочался на неудобной узкой кушетке в полупустой комнате, куда меня привели два вежливых, молчаливых капитана. «Что б это всё могло значить? — думал я. — И как себя держать? Нельзя же всё время молчать и поддакивать. Подумает ещё, что трус или дурак. Но как его раскусить? Пока не получается. Может, когда больше выпьем? А вообще-то молодец. Всё ж под семьдесят, не тридцать шесть, как мне».
Опыта общения с тиранами у меня не было. Гитлер тоже, говорят, за столом был внимателен, общителен, ручки дамам целовал. Ильич кошечек поглаживал, говорил, что всю жизнь слушал бы «Аппассионату». Правда, добавлял, что она его размягчает, хочется милые глупости говорить, по головкам гладить, а по ним надо бить, бить… «Адски тгудное занятие». А этот? Вроде бы уютный дедушка, с юмором, над собой пошутить не прочь, но вот под конец, когда Жданова вспомнил, и потом, когда обернулся у дверей, уютного дедушки уже не было. А это, «за полушку продадут»?
Чуть ли не всю ночь проворочался, к чему-то прислушивался — тишина была гробовая.
Что же дальше будет, думаю.
А дальше проснулся я посреди ночи, а он сидит у меня в ногах, в руках пол-литра.
— Не спится что-то, капитан. Мальчики кровавые в глазах. Решил к тебе зайти.
Я натянул штаны. Он был в полосатой пижаме, на локте заштопанной. Как Александр III, подумал я. Тот тоже любил всё старенькое, ношеное. Витте в своих мемуарах вспоминает, как он сопровождал царя, когда был директором Юго-Западных железных дорог. Зашёл ночью в царский вагон и с удивлением обнаружил государева денщика, старательно штопающего штаны самодержца. «А они не любят нового. Посмотрите на их сапожки, каждый месяц новые подборы ставим».
Сталин подсел к столу у окна.
— Ну, давай, капитан.
— А из чего, товарищ Сталин? — Оглядевшись, я не обнаружил стаканов. Сталин вроде даже смутился.
— Минуточку, сейчас придумаем, — и вышел.
Вскоре вернулся. С двумя гранёными стаканами и тарелочкой огурцов.
— Хлеба вот нет. А старуху будить не хочется. Обойдёмся?
Пьянка эта, начавшаяся где-то часа в три ночи, затянулась на весь день. Охота почему-то была отменена. «А ну её, пожалеем этих зубров. Сохраним поголовье. Хоть тут, да сохраним», — и мрачно рассмеялся.
Пили водку, ели вяло, хотя старуха натаскала потом кучу всякой копчёности, грызли в основном орешки.
— Закусывать надо, закусывать, — ворчала она, злобно бросая на стол вилки и ножи. — Забалдеете, начнёте гостя обижать. Смотрите, какая телятинка, во рту тает.
— Не учи, старая, сами знаем, учёные.
— Чему учёные? Людей сажать учёные, а пить не умеете.
Сталин попытался рассердиться, но не получилось.
— Ладно, старая, иди, не мешай.
Старуха, ворча, ушла.
И всё пошло вроде как по маслу. Даже закусывать стали. Возникший опять разговор о писателях принял вдруг шутливую окраску. Не ввести ли, мол, звания? Лит-майор, лит-полковник, генерал-литератор первого ранга, второго, третьего. Маршал литературы. Надеть на всех погоны, с лирой там или с гусиным пером. Собирался даже позвонить Фадееву, чтоб комиссию создал, потом раздумал.
— Дождёмся съезда какого-нибудь. Выступлю на нём, ох и благодарить будут. Как архитекторы. Когда я им мысль про высотные здания подсказал. Очень им эта идея понравилась, акценты, говорят, расставили. Гениальное решение, товарищ Сталин, говорят…
Он разлил водку по стаканам.
— Надо бы ещё что-нибудь придумать. Ты вот, говорили мне, по образованию тоже архитектор. Помоги, дорогой. Метро есть, высотные здания будут. Что ещё?
И прищёлкнул вдруг пальцами.
— Блестящая идея! Выпьем за неё, за ещё одно доказательство сталинской заботы.
Выпили. Не окосеет ли? Нет, держится. Могучий старик.
— Так вот, — начал он. — Знаешь, почему Дмитрий Самозванец в русские цари не годился? Нет, не знаешь. Умный ведь, образованный был, а вот есть две вещи, без которых русский не может. Поспать любит после обеда да в баньку сходить. А Дмитрий ни в какую. И не спит, и в баню не ходит… А? Какой же это русский царь?
— Никакой, — согласился. — А вы, Иосиф Виссарионович, ходите?
— Куда? В Сандуновскую? Да что ты, она для народа, не для нас. Потому и в цари не гожусь… Так вот, задумал я… Знаешь, как в Риме? Громадные такие бани, «термы» называются, красивые, с колоннами из мрамора, бассейны разные, фонтаны вокруг, а потом в специальных залах, тоже красивых, русалки там на потолках, Садко богатый гость, по кружечке пивца, попотеть, поговорить за жизнь. Народ наш доволен будет. Спасибо, скажет, товарищу Сталину, обо всём он заботится. И на душе легко, и тело чистое…
Очень ему понравилась эта затея. Поговорили ещё о том, где их, эти термы, разместить, и остановились на острове, где Дом правительства, кинотеатр «Ударник». Потом вернулись опять к «царской» теме.
— Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был, — на лице его появилось некое мечтательное выражение. — Самодержец Всесоюзный. Неплохо звучит, а? Царь Польский — Берута побоку, наместником сделаем, — Великий Князь Финляндский — Паасикиви тоже побоку, — Эмир бухарский, Хан казанский и крымский, Господарь молдавский, Гетман вся Украины. Вот приеду к вам в Киев, булаву вручать будете.
Он развеселился от этой мысли, встал, подошёл к столу.
— Чару налей! Келех по-вашему, по-хохлацки. За нового Гетмана выпьем! — Он отхлебнул чуток. — Надо бы Никите позвонить, чтоб разыскал он эту самую булаву Богдана Хмельницкого. Хранится же где-нибудь у них там.
Устроившись в кресле, в углу стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку Мономаха вспомнил, и про бармы царские. И во что нарядить членов Политбюро.
— В кафтаны, кафтаны! И Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почётного Кагановича, всех в кафтаны… И хоругви чтоб несли. И в колокола ударим… Их, правда, всех к чёрту перелили. Вот Кагановичу и поручим достать. Распяли Христа — пусть грехи замаливают, — весело засмеялся. — Ну, что там ещё при коронации бывает?
— Ходынка, — ляпнул я.
Смех прекратился. Поджал губы.
— Знаешь, что за такие штучки положено? Скажи мне такое Молотов или придурковатый наш Клим, да я бы их… — и покачал вдруг примирительно головой. — Ох, капитан, капитан. Шутник ты всё же большой. Только потому, что сталинградец, прощаю. А то сделал бы тебя своим Балакиревым, придворным шутом. Колпак с погремушками на голову — и сиди у трона, шутки шути, остроты пускай. Ох-хо-хо.
Гроза миновала.
— Слушай, а что если я тебя в Политбюро введу? Русский, фронтовик, что ещё надо? Они же, серуны, и пороха не нюхали. Или в секретариат. Жданов пусть музыкой занимается, чижика-пыжика на рояле одним пальцем умеет, а ты литературой. Будешь подсказывать мне, кого в кино пригласить, «Тарзана» посмотреть, выпить потом, а кого под задницу. Поприжать их всех надо, паразитов. Расплодились, черти. Дачи себе понастроили, живут, как паны… А у тебя дача есть?
— Что вы, товарищ Сталин, в коммуналке живу.
— В коммуналке? Сталинский лауреат — и в коммуналке?
— Так точно, товарищ Сталин.
— Безобразие, понимаешь. — Он подошёл к телефону. — Хрущёва мне. — И через минуту: — Никита? Ну как, живой? Лазарь не замучил? Ну ладно, ладно. Так вот, сидит тут у меня один ваш киевский писатель, молодой. Некрасов фамилия, — он повернулся ко мне. — Ты не родственник, часом, того, классика?
— Ни с какой стороны.
— Говорит, ни с какой стороны. Сам вылупился, без протекции. Что? Не слыхал о таком? И не стыдно? Руководитель называется. Так вот, садись в самолёт и чтоб… Сейчас сколько? Глянь, капитан, я без часов… Девять? Без пяти девять. Чтоб в двенадцать был у меня. Ясно?
Он положил трубку.
— Пусть проветрится. А то совсем замучил его там Лазарь с этими делами украинскими. Заодно и повеселит нас, парень занятный.
Дальше произошло нечто, в чём я не проявил достаточной активности. А надо бы. То ли хмель помешал, то ли важность того, что сообщено было мне, поставило меня в тупик, но только сейчас, столько времени спустя, я понял окончательно, какую промашку дал.
После телефонного звонка Сталин начал ходить по комнате. Из угла в угол, туда и обратно, своей неторопливой, неслышной походкой. Какое-то время постоял у окна. Я продолжал сидеть за столом, ковыряя вилкой остатки вчерашнего сациви.
Сталин подошёл к столу и как-то странно посмотрел на меня. Потом направился к двери, приоткрыл и к чему-то прислушался, неслышно затворил, вернулся к столу. Да, подумал я, боги, оказывается, вовсе не благодушествуют на своих облаках, они тоже чего-то всё время остерегаются, озираются, к чему-то прислушиваются…
Сталин внимательно смотрел на меня. Во взгляде его было что-то новое — не то что недоверие, а какая-то неожиданная для меня неуверенность, будто он сомневался в чём-то, на что-то не решался. И это Сталин… Длилась пауза секунд пять, может, десять.
— Никому не говорил, а тебе скажу, — произнёс он наконец, и глаза его сузились. — Молчать умеешь?
Я проглотил слюну. Сказал, что умею.
— Под большим секретом… Тайна, — он подвинул стул вплотную к моему и, наклонившись, шёпотом сказал: — Дневник веду… — приложил толстый палец к губам. — Никто не знает…
Я молчал. Взгляд его сверлил меня насквозь.
— Никому не верю, все серуны… А тебе верю, понимаешь? И доверяю, дневник свой доверяю. Понятно? Когда умру…
Он вдруг умолк, стал к чему-то опять прислушиваться. Было тихо, только какая-то птичка щебетала за окном. Встал, беззвучной походкой подошёл к кушетке, осторожно отодвинул её, но тут же придвинул обратно.
— Не сегодня, нет… — распрямился. — Специальный разговор будет. Вызову.
И он вновь заходил по комнате. Туда-сюда. Раза три-четыре.
— Ладно, налей.
Я разлил по стаканам.
— Пикнешь только, язык вырву. Ясно? Как шах персидский или афганский…
Мы выпили, и он, как ни в чём не бывало, заговорил о Востоке. Вспомнил Амануллу-хана, который в начале двадцатых годов приезжал в Союз.
— Трактор мы ему тогда подарили. Тебе смешно? А тогда, знаешь, какой это подарок был? Интеллигентный был шах, падишах в то время назывался. И жена красавица… — Он причмокнул языком и тут же добавил: — А язык вырву. Как его прадедушка вырывал…
Мне стало как-то не по себе, хотя он тут же улыбнулся своей чернозубой улыбкой и похлопал меня по плечу.
— Уже и пошутить нельзя, пугливые вы все какие-то… — И без всякого перехода: — Послушай, а ты дневник вёл? Когда-нибудь? А?
— Пытался в Сталинграде, не получилось.
— Трудно, очень трудно. И непонятно. Для кого пишешь? Для истории? Для себя? Ладно. Потом. Вызову, поговорим… Как с писателем. Толстой вот писал, в сапог прятал. А мне куда? А? — Он рассмеялся и погрозил мне пальцем. — Как там у Пушкина? И вырвал грешный мой язык, какой-то там, не помню уже, и лукавый, и жало мудрое змеи… Эх, нет больше Пушкиных, товарищ писатель, нет… — он вздохнул.
Фу ты чёрт, подумал я, холодея, — влип. Язык, может, и не вырвет, но вот возьмёт и вызовет. Что тогда? И заставит читать. Или наоборот — запретит. Но даст указание. Тогда-то и тогда-то, когда он умрёт, в таком-то месте… А может, и совсем по-своему — кто слишком много знает — к ногтю… Самый реальный из вариантов… Мне стало по-настоящему страшно.
25
Ровно в двенадцать, минута в минуту, дверь приоткрылась, и в ней показалась поросячья физиономия Хрущёва.
— Можно, товарищ Сталин?
— А, Лис-Микита… — Сталин приветливо помахал рукой. — Горилку привёз?
Хрущёв растерянно развёл руками.
— Ну и недогадливый ты хохол. И истории не знаешь. К царям всегда с дарами приходят. Шубу там соболью, коня резвого, яхонты, алмазы… А нам вот с писателем горилки с перцем вашей украинской не хватает. Ну, что делать с ним будем? Накажем?
— Так я, товарищ Сталин, сейчас…
— Да хрен с тобой. На первый раз прощаем. Налей-ка ему, капитан. Полный, полный. Бери! Да не расплескивай. Руки чего дрожат? Со страху, что ли? Ну, рявкнул мишка…
Очевидно, действительно от страха, но руки у Никиты Сергеевича так дрожали, что он с трудом стакан к губам поднёс. Потом поперхнулся. Но выпил, с трудом, но выпил.
— Ох и питух же ты, Никита, — рассмеялся Сталин, обнажая чёрные свои зубы. — Тоже мне казак, запорожец…
Удивительно он всё-таки словоохотливым оказался. А я-то думал, что так лениво роняет слова. Ходит вокруг стола, попыхивает трубочкой и неожиданным вдруг вопросом каверзным огорошивает. Таким в кино мы его видали, к такому привыкли.
— Выпил? Теперь закуси. Балычок, семушка. Да ты не стесняйся, чувствуй себя как дома. Там небось от стола не оторвёшь. Смотри, какое пузо отрастил. Давай ему второй, капитан, а то не на равных будем.
Второй пошёл у Хрущёва легче. Крякнул, вытер ладонью рот, отрезал кусок телятины.
— Вот и хорошо, — сказал Сталин и встал. — Вы тут закусывайте пока, а я тем временем… — Он вышел, очевидно по надобности…
Хрущёв тяжело вздохнул, посмотрел на меня со смешанным чувством почтения и недоумения.
— Так это из-за вас он меня вызвал?
— Да вроде.
— А по какому поводу, не знаете?
— Квартирному.
— Квартирному? А у вас что, нету? Так это ж по телефону всё можно.
— Вероятно, можно.
— А ещё про что-нибудь говорил?
— Говорил.
— Про что?
— Про булаву.
— Какую булаву?
— Богдана Хмельницкого.
— Что на памятнике? Убрать, что ли, надо? Вмиг уберём, — он облегчённо вздохнул.
Иди оно так, как шло, всё было бы прекрасно. Хрущёву было приказано отгрохать мне дачу на берегу Днепра и квартиру не хуже, чем у Корнейчука («Ах, у него особняк, и Некрасову особняк!»), потом предложено было по традиции сплясать гопака и совсем уже не по традиции — есть такое русское развлечение — изобразить борьбу с медведем, и в награду преподнесён был келех, и беднягу совсем развезло. Сталин смеялся, хлопал в ладоши. На этом бы и кончить, поблагодарить за гостеприимство, Никиту взять под микитки и улететь бы с ним в Киев, а там дача, особняк и прочие лауреатские блага с царского плеча.
Но не тут-то было, позвонил вдруг телефон. Сталин взял трубку.
— Ну, чего там, — буркнул. — А кто его приглашал? Занят я… Скажи, что занят, — и положил трубку. — Тоже мне борец с алкоголизмом.
Через минуту опять звонок.
— Ну что? Какое там может быть важное дело? — матюкнулся. — Ладно, пусть зайдёт.
Зашёл Берия.
— Ну, чего принесло? Видишь, пьём. О серьёзном разговариваем. Чего тебе надо? Короче.
Берия приоткрыл было рот, но Сталин перебил:
— А ну, дыхни! Трезвый! А трезвый человек — человек подозрительный. На, выпей. — Сталин налил полный стакан. — Штрафную.
Берия взял стакан и злобно посмотрел сначала на Хрущёва, тот примостился уже на моей кушетке, потом на меня.
— Чего косишься на него? Писатель. Мы тут с ним литературные проблемы решаем, а ты со своей мурой. Сажать сегодня никого не буду, ясно? Пей! И залпом!
Лаврентий Павлович с трудом, но выполнил приказание. Сталин ткнул вилкой в огурец.
— Закусывать надо. А то окосеешь и заведёшь волынку… Ну, докладывай, раз пришёл.
— Разговор конфиденциальный, — сказал Берия.
— Ах, конфиденциальный? Серьёзный? Жизнь страны от него зависит? Да? А может, я не хочу сейчас о стране говорить? Хочу о литературе. С писателем. Ты Щедрина читал когда-нибудь? Нет. А был такой губернатор-писатель. И неплохой. Лучше вашего Горького. Вот пойди почитай. Потом доложишь. Кру-угом, марш!
Берия на глазах бледнел. После последних слов начал пятиться. Опять злобно глянул на меня. Сталин перехватил его взгляд.
— Пью с кем хочу, ясно? С тобой не хочу, а с ним хочу. Пришёл ещё подглядывать, — и стукнул кулаком по столу. — Марш отсюда!
И Берия, грозный Берия, растаял; как будто его и не было.
— За грузина себя ещё выдаёт, гад… — Сталин встал и прошёлся по комнате. В столовую мы так и не пошли, пили у меня. — Подглядывают, сволочи, подслушивают, проверяют… Житья нет.
Поправил косо висевший шишкинский лес.
— На тебя ещё грозно смотрит, блядюга. Пусть попробует только. Хребет сломаю ему, Малюте зарвавшемуся.
Нежданный визит этот испортил всю нашу идиллию. Начал вспоминать, кто в чём провинился. Виноваты, оказалось, все. Прихлебатели, болтуны, доносчики, каждый на чужом х… в рай хочет въехать. Втируша Маленков, и Вячек — медный лоб, и Лазарь этот обрезанный — все друг друга стоят…
И исчез уютный дедушка. По комнате из угла в угол решительными шагами ходил пока ещё не разгневанный, но явно разозлённый, выпивший (нет, не пьяный, я поражался этому, а именно выпивший), крепкий ещё старик в заштопанной пижаме и, щедро пересыпая свою речь матом, поносил своих нерадивых слуг.
Подошёл к прикорнувшему на моей кушетке Никите, пнул ногой.
— Ну, чего развалился? Сталин его вызвал, а он слюни тут пускает. Утрись!
Ошалелый Хрущёв лихорадочно стал вытирать рот, оттуда действительно что-то текло.
— А ну встать! По стойке смирно! Докладывай, что у вас там, на Украине? Как указания выполняете?
Хрущёв вытянулся, руки по швам, заморгал глазёнками.
— Кре… Крещатик вот по вашему указанию восстанавливаем. Писатели включились. Павло Тычина стихи написал. Как это? Сестричку, братику, попрацюемо на Хрещатику…
— Нужен мне твой маразматик Тычина… Сестричку, братику… Ты мне про зерно, про уголёк доложи. Сядь, соберись с мыслями.
И, как ни странно, Никита собрался — в этом, вероятно, и была магическая сила Сталина — уметь выколачивать из людей нужное, в любой момент, в любой обстановке. Вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумажку, стал, не очень даже заплетаясь, приводить какие-то цифры.
Сталин, к моему удивлению, похлопал его по плечу и то ли доброжелательно, то ли с издёвкой сказал:
— Видал? Пятидесятимиллионная республика, а у него все цифры в боковом кармане. Ну и даёшь ты, Никита. Тем не менее подсел к столу.
26
Дальше произошло то, чего я больше всего опасался. Мне захотелось говорить.
«Ни в коем случае! — пытался я убедить самого себя, — ни в коем случае! Видишь, как всё хорошо идёт. Всех ругает, а тебя нет. Над всеми издевается, а тебя только по голове гладит. Никиту вот специально вызвал, дачу, особняк отвалил, что тебе ещё надо? Кати немедленно в Киев и пиши, пока зелёная улица перед тобой…
Нет, хочу говорить!
Не гневи Бога, не гневи Сталина, балда! Начнёшь за здравие, кончишь за упокой. Опять с какой-нибудь Ходынкой влезешь. Сейчас уже не сойдёт тебе. Берия в нём всю муть со дна поднял, разве не видишь? Нет уже рождественского дедушки. Перед тобой Сталин, ты что, забыл? И оба вы пьяные…»
Ни в какую… Тост! Только тост! Хочу тост произнести!
И произнёс.
Подошёл к столу, разлил остатки водки и очень громко произнёс:
— Дорогой товарищ Сталин, дорогой Никита Сергеевич! Простите, что я вторгаюсь в ваш серьёзный, деловой разговор, но мне кажется, что настало время выпить…
— Очень правильное замечание, — серьёзно сказал Сталин, взяв протянутый мною стакан. — Выпить никогда не вредно. Мозги прочищает.
И меня понесло. В пьяном словоизвержении своём я говорил в основном о войне. Об отступлении, об оставленной Украине, о мосинских трёхлинейках, которые выдавали нам за день до вступления в бой, и, конечно же, о Сталинграде, Мамаевом кургане, солдатах, командире полка, Чуйкове, Родимцеве, колхозных лопатах, мёрзлом грунте… Патриотизм так и пёр из меня.
— У сталинградцов, у солдат была одна мечта, — закончил я свой несколько затянувшийся тост. — Дорваться до логова этого бандита, до его канцелярии и нагадить ему на стол. Вот за это солдаты и пили свои положенные сто грамм.
— Хороший тост, — сказал Сталин. — Но в ответ я тебе вот что скажу. Налей-ка ещё.
— А больше нет, товарищ Сталин.
— Как так нет? Такого не бывает. А ну, Никита, сбегай. Скажи там дежурному.
Хрущёв неуверенной походкой направился к двери.
— И нарзану заодно, — крикнул ему вдогонку Сталин. — А тебе скажу, — он ткнул меня пальцем в грудь. — Понял я наконец тебя, Некрасов. Хитрый ты человек. Очень даже хитрый. За это хвалю. Но не расчётливый. Что раз прошло, второй раз уже не годится… Вот ты тост произнёс. Хороший тост, патриотический. И тамада из тебя может выйти хороший. Уж не грузин ли ты? Может, бабушка какая была грузинкой, а? Но в тосте своём ты допустил ошибку — перехитрил или недохитрил, не знаю, но впросак попал.
Он прошёлся по комнате. Озлобление его вроде прошло. Остановился против меня.
— Но скажи мне такое, только откровенно. По совести. По-твоему, что, товарищ Сталин участия в Великой Отечественной войне не принимал? — и выдержал паузу, во время которой я почувствовал, что начинаю холодеть. — А мне казалось, что небольшой, но всё-таки вклад сделал. Может, я ошибаюсь?
Я стоял перед ним и молчал. Руки и ноги оцепенели.
— Хорошо… На это ты мне вполне справедливо ответишь, что вы сами, товарищ Сталин, сказали, что жопа у вас болит и что ты эту самую мою жопу пожалел… Вот и подсказал я тебе ответ. А ты уже испугался. Не надо. Но запомни — хитрить хорошо, но не с товарищем Сталиным. Понятно?
Он поднял руку, то ли предваряя возможные мои извинения или объяснения, то ли давая знак, что ещё не кончил. Опять прошёлся по комнате.
— Но это, так сказать, для начала. Присказка. Небольшой совет юному другу. Но главное, что я хотел тебе сказать после твоего тоста, хорошего тоста, не спорю, другое. Про Гитлера. Ты назвал его бандитом. И солдаты так его называли. Правильно называли. Конечно, он бандит, но я думал, что бандит умный, а оказался глупый. Вот если б мы вместе да против всех этих наших союзничков, Черчиллей, Рузвельтов, весь мир покорили бы, понимаешь, весь мир! А потом поделили бы пополам! А он, дурак, не понял. И полез. И по зубам получил.
Я почувствовал, что сейчас что-то произойдёт.
— Товарищ Сталин, но ведь вы сами…
— Не перебивай! Товарища Сталина перебивать нельзя. Слушай. Договорились, значит, мы с тобой, что Гитлер бандит. Людей убивал, в печках сжигал. Нехорошо, конечно. Негуманно. Ну, а товарищ Сталин, по-твоему, не бандит? — Он сделал паузу, и я почувствовал — по спине у меня побежали мурашки. — Сколько он людей на тот свет отправил! А? Куда там Гитлеру. Ребёнок по сравнению с товарищем Сталиным… Учиться ему у товарища Сталина надо было, а он вместо этого полез, дурак, на него… А начал-то он вообще неплохо. Тесно, говорит, нам, немцам. Версаль задушил! И гам! — для пробы — Саар. Плебисцит вроде устроил. Сошло. Потом Австрия, аншлюс. Сошло. Судеты, Мюнхен — тоже сошло, победа. Сожрал Чехословакию, союзнички промолчали. Молодец! Хвалю! Знал, что делал. И внутри тоже. С врагами народа надо поступать решительно. Колебаться нельзя. «Окончательное решение еврейского вопроса» — правильное решение. Я бы сказал даже, гениальное.
Что он говорит? Я почувствовал, что во мне что-то оборвалось. — Товарищ Сталин… Иосиф Виссарионович… Но нас же всю жизнь учили, убеждали, что антисемитизм…
Он не дал мне договорить.
— Не было его! Нет! И не будет! — Он вдруг побагровел. — Нет такого понятия, «антисемитизм». Понятно? Есть племя торгашей, ростовщиков и хапуг…
— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?
— Эйнштейн не знаю, а Каганович да!
Тут как раз вошёл Никита с двумя бутылками водки.
— Скажи, Никита, Лазарь — вор?
Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.
— Вор или не вор, говори!
Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот он размахнётся и ударит его.
— Говори!
Но Никита не в силах был выдавить ни слова.
А я… До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затмение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упёршись пьяными глазами в Сталина:
— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?
— Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.
— И напрасно! Командир пятой роты 1047-го полка 284-й дивизии. Выпили?
Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец. Потянулся к телефонной трубке.
— За такое знаешь что? — сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь.
— Не знаешь? Так вот узнаешь.
Он набрал номер. — Берию ко мне, — и швырнул трубку.
Всё! Я понял, что всё.
Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущёв, ни я. Застыли.
В ушах стучало. Всё быстрее и быстрее.
Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.
И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие красные огоньки, как у кошки ночью.
За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.
Я понял, что это конец. Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Всё сильнее и сильнее.
Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь всё усиливающийся звон в ушах:
— Жиденький паренёк… А я ещё на брудершафт хотел. Больше я ничего не слышал, я умер.
-------------------
Умер-шмумер, был бы здоров.
Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города. Тираны умерли — не все, правда, Молотовы и Кагановичи всё ещё поливают свои грядки, а может, что-то и строчат, лживое, — но главные убийцы всё же лижут в преисподней раскалённую сковородку. А я, отряхнувшись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы.
…
Садизм, мстительность, лицемерие, черный юмор
(Из книги Цветкова Н. Д. «Гений зла Сталин»)
Будучи выходцем из низшего сословия и имея различные телесные дефекты (левая рука короче правой, два пальца на левой ступне срослись вместе, небольшой рост, лицо в глубоких оспинах), Сталин с детства испытывал чувство неполноценности, что сказалось на формировании его характера и психики.
Заложенный в него еще в детстве явно выраженный садизм усилился в годы лишений и скитаний.
После революции Сталин был первым, кто приказал пытать политзаключенных в Царицыне. В период его правления методы пыток превзошли все известные до того средства. Сталин принимал личное участие в допросах, утверждениях списков лиц, подлежавших к расстрелу, заставлял визировать эти списки своих приближенных. Он наслаждался, причиняя боль другим.
Сталин считал для себя полезным и доставлявшим ему особое удовлетворение держать своих ближайших соратников на «коротком поводке», публично унизить и оскорбить их, принести им душевные страдания.
Не менее циничным и садистским было отношение Сталина к бывшему коллеге по Политбюро и личному другу Н.И. Бухарину. Сталин долго вел игру, которую Бухарин сначала не понимал. На XIV съезде партии в 1925 году Сталин в заключительном слове многозначительно произнес: «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте».
В конце 1928 года Бухарин подобрал случайно на полу после окончания заседания Политбюро бумажку, на которой было написано рукой Сталина: «Надо уничтожить бухаринских учеников».
1 декабря 1934 года было совершено покушение на первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова.
В этот день писатель Лев Кассиль, долгие годы работавший в редакции газеты «Известия», зашел в кабинет главного редактора газеты Н.И. Бухарина, который слушал собеседника, находившегося на другом конце провода. Бухарин заметно бледнел, вытирал ладонью испарину со лба. А повесив трубку, тихо произнес: «Сегодня в Ленинграде убит Киров. — И, тягостно помолчав, добавил: — Теперь Коба сделает с нами все, что захочет».
Провидение Бухарина осуществилось довольно быстро и в ужасной форме. В тот же день, 1 декабря 1934 года, было принято Постановление Президиума ЦИК СССР «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов», сыгравшее страшную роль в ведении судопроизводства.
Согласно Постановлению, срок следствия сокращался до 10 дней, обвинительное заключение обвиняемому было положено вручать за одни сутки до суда, в котором дела рассматривались без участия сторон (т. е. без адвоката и прокурора). Обжалование приговора и подача ходатайства о помиловании не допускались, приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно по его вынесении.
Сталин отбросил такие общепризнанные демократические принципы судопроизводства, как гласность, объективность и всесторонность расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, право обвиняемого на защиту, презумпция невиновности — правосудие стало фикцией.
Весной 1935 года Бухарин присутствовал на выпускном вечере военных академий. Первый тост, произнесенный Сталиным, был не за военного: «Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича Бухарина! Все мы его знаем и любим, а кто старое помянет, тому глаз вон!»
В тот самый 1935 год, когда Сталин поднял тост за Бухарина, Ежов приступил к написанию рукописи «От фракционности к открытой контрреволюции», содержавшей основную версию обвинения «правых» — М.П. Томского, Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова. Сталин лично редактировал этот «труд».
На февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года Бухарин по совету-настоянию Сталина попросил у Пленума извинения за голодовку, объявленную им в знак протеста против выдвинутых ему обвинений в шпионаже и вредительстве. Сталин: «Кому ты голодовку объявил, Николай, ЦК партии? Проси прощения у Пленума…»
— «Зачем это надо, если вы собираетесь исключать меня из партии?»
— «Никто тебя исключать из партии не будет».
В очередной раз Бухарин поверил Сталину и унизительно попросил у Пленума прощения…
А в это время звонок в дверь — пришли трое мужчин, предъявили приказ о выселении Бухарина из Кремля. Звонок от Сталина: «Что у тебя, Николай?» — «Вот пришли из Кремля выселять…» — «А ты пошли их к чертовой матери…»
В феврале 1937 года Пленум ЦК ВКП(б) исключил Бухарина из партии, он был арестован, а после громкого процесса над «правым уклоном» был расстрелян 13 марта 1938 года.
28 марта 1938 года, через две недели после окончания процесса, был подписан в печать «Полный стенографический отчет» на 700 страницах текста. Однако первоначальный экземпляр стенограммы, более полувека хранившийся в особо секретной части архива Политбюро ЦК КПСС, насчитывал около полутора тысяч страниц. Именно эту стенограмму читал и корректировал Сталин. Осуществлялась подтасовка ее, с тем чтобы не осталось сомнений в виновности подсудимых и в «справедливости» приговора.
Особое внимание Сталин обратил на запись последнего слова Н.И. Бухарина, написанного его рукой. На полях стенограммы и в тексте имеются пометки Сталина. Его рукой были вычеркнуты как отдельные фразы, так и целые абзацы.
В своем последнем слове Бухарин, по существу, разбил многие хитроумные построения обвинения, показав всю их надуманность и несуразность.
«Сейчас я перехожу ко второй части моего последнего слова, а именно — обоснованию обвинений. Я опровергаю прежде всего свой якобы факт принадлежности к группе, сидящей на скамье подсудимых, ибо такой группы, как таковой, вовсе не было и вовсе не эта якобы группа носила название «правотроцкистского блока»… А раз это так, то ясно, что эта несуществующая группа не может быть, вопреки обвинительному заключению, сформирована по заданиям разведок».
В официальной стенограмме отсутствуют иронические слова Бухарина: «Признаю ответственность даже за те преступления, о которых я не знал и о которых не имел ни малейшего представления».
Над текстом своего последнего слова Бухарин работал во внутренней тюрьме НКВД. Он понимал, что обречен, но в то же время в глубине души надеялся на замену смертной казни тюремным заключением, как это было сделано в отношении Радека и Сокольникова, осужденных на предыдущем процессе.
Недавно в архиве Сталина была обнаружена сделанная его рукой поразительная запись после расстрела Бухарина: «Прости, Бухарчик, мы все — заложники времени».
О судьбе А.П. Серебровского, входившего в плеяду соратников Ленина. Находясь в эмиграции в Бельгии, он, по совету Ленина, окончил Брюссельское высшее техническое училище. Последняя должность — замнаркома тяжелой промышленности.
Ночью 22 сентября 1937 года совершенно неожиданно на квартиру Серебровского позвонил Сталин. Он сказал, что хочет поздравить Серебровского (который в это время находился в больнице на лечении, о чем Сталин, разумеется, знал) с новым назначением наркомом тяжелой промышленности. А 26 сентября прямо из больницы на носилках Серебровского унесли в тюрьму. Его жена обращалась во все инстанции, требовала освобождения мужа, но все напрасно — он был расстрелян. В ночь на 7 ноября арестовали и ее, а старую мать с ребенком выгнали из квартиры на улицу. Жена провела в заключении 18 лет. (Из рассказа дочери Инны Серебровской. «Советская Россия», 16 октября 1988 года.)
12 декабря 1938 года в главном зале Центрального дома литераторов собрался цвет творческой интеллигенции в связи с недавним выходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)». Было известно, что книгу редактировал и даже написал некоторые страницы сам Сталин.
В качестве докладчика Сталин выбрал популярного тогда писателя, журналиста, члена редколлегии «Правды», находившегося в зените славы, Михаила Кольцова. Только что была издана его книга «Испанский дневник» — о героической борьбе испанских республиканцев против фашизма, получившая восторженные отзывы Алексея Толстого и Александра Фадеева и за рубежом.
По воспоминаниям участников совещания, выступление Кольцова было блестящим, но отчета о вечере в прессе почему-то не появилось.
Оказалось, что, закончив доклад около 9 часов вечера, Кольцов отправился в редакцию «Правды». Войдя в свой кабинет, он увидел там четырех человек в военной форме. Быстро подойдя к своему столу, он протянул руку к трубке кремлевского телефона. Но его остановили: «Там знают».
Вскоре Кольцов оказался на Лубянке. Цель его ареста состояла в том, чтобы еще раз припугнуть интеллигенцию, показать, что топор «революционной законности» может обрушиться на любую голову, независимо от наград, заслуг, популярности. Сталин сделал все это продуманно.
Преступный курс политики Сталина со временем поняла его жена Н.С. Аллилуева и пришла в ужас после поездки на Украину. В беседе с личным врачом Сталина она заявила: «Теперь я вижу, как все последователи Ленина один за другим уходят в никуда. Сталин — диктатор, им руководит бредовая мечта о мировой революции. Сталинский террор гуляет по стране, как дикий зверь, — мне ужасно стыдно». (Антон Ноймайр. «Диктаторы в зеркале медицины», изд. Ростов-на-Дону: «Феникс». 1997.)
Общим правилом Сталина было избавиться от лиц, которые слишком много знали о его злодеяниях.
По свидетельству его дочери Светланы Аллилуевой, «в 1937 году отец не остановился перед истреблением членов собственной семьи: троих Сванидзе, Реденса… В 1948 году та же судьба постигла моих тетушек. Он считал их опасными, так как «они слишком много знали» и, по его утверждению, были «слишком болтливы». (Из статьи «34 года в эмиграции».)
Однажды руководитель Коминтерна Георгий Димитров обратился к Сталину с просьбой освободить из заключения под его поручительство нескольких немецких коммунистов.
Сталин только развел руками: «Ну что я могу с ними поделать, Георгий? У меня самого все родственники сидят».
Этой репликой он дал всем понять, что не стоит, бесполезно обращаться к нему с просьбами помочь освободить невинно репрессированных дорогих им людей — он им не помощник, не для того сажал, чтобы потом освободить. (Генрих Боровик. Статья «Жестокие забавы вождя…». «Литературная газета», 2000, №3).
Валентин Сахаров
К.Маркс о социальной базе социалистической революции в России
http://svom.info/entry/614-o-roli-teorii-v-revolyucionnoj-praktike-k-marks-o-/?page=1
(Сокращено)
К.Маркс в последние годы жизни тщательно изучал историю и современное ему положение России, чтобы прояснить вопрос о перспективах социалистической революции в ней. Основные результаты этой работы он изложил в трех пространных черновиках ответа на письмо Веры Засулич и в коротком письме к ней (март 1881 года). В них он сформулировал и аргументировал свое видение социалистической революции в России и, в частности, указал на важную роль в ней русского крестьянства, обладавшего, благодаря общинному укладу его жизни, социалистическим потенциалом. Таким образом, К. Маркс пересмотрел прежде однозначную оценку ограниченной способности крестьянства участвовать в пролетарской революции, данную в «Манифесте Коммунистической партии», в виду того, что их относительная революционность, вызванная страхом перед предстоящим обнищанием, является оборотной стороной их контрреволюционности и даже реакционности.
К. Маркс указал на то, что в России становление капитализма идет на иной, чем в Западной Европе, основе, где одна форма частной собственности на землю (феодальная), заменялась другой ее формой – капиталистической. В России же насаждение буржуазной частной собственности на землю происходило на основе уничтожения общинной собственности на нее. Следовательно, ей был свойственен социальный дуализм. Он проявлялся в органичном сочетании в сельской общине двух различных принципов: «частной собственности» (на средства производства, продукты труда, дом, приусадебный участок) и «общинной собственности на землю» (на пашню, луга). К. Маркс писал, что «ее врожденный дуализм допускает альтернативу: либо собственническое начало одержит в ней верх над началом коллективным, либо же последнее одержит верх над первым. Все зависит от исторической среды, в которой она находится». Поскольку эта среда могла измениться в ходе социалистической революции, то он не считал, что русская сельская община, как пережиток феодализма, обречена на отмирание, и выражал уверенность, что она может стать базой социалистического преобразованиия России.
На основании этих оценок русской сельской общины К. Маркс делал вывод, значение которого для дальнейшего развития России невозможно переоценить: «Говоря теоретически, русская “сельская община” может все же сохранить, развивая свою базу, общинную собственность на землю и, устранив принцип частной собственности, который ей также присущ, стать непосредственным отправным пунктом экономической системы (т.е. социализма. – В. С.), к которой стремится современное (т.е. буржуазное. – В. С.) общество: не прибегая к самоубийству, она может начать совершенно новую жизнь, она может, минуя капиталистический строй, присвоить плоды, которыми капиталистическое производство обогатило человечество; строй, который, если рассматривать его исключительно с точки зрения возможного времени его существования, вряд ли стоит принимать в расчет жизни общества. Но нужно спуститься с высот чистой теории к русской действительности» (выделено нами. – В. С.).
Важно отметить, что теоретические возражения против возможности для России развиваться этим путем К. Маркс считал несостоятельными. Он был уверен, что в России революционеры могут и должны использовать сельскую общину для проведения социалистического преобразования общества. Для этого, прежде всего, требовалось спасти ее от разрушения, неизбежного в процессе развития капитализма. Но «чтобы спасти русскую общину, - писал он, - нужна русская революция», предотвращающая ее разложение и создающая условия для ее развития, следовательно, он имел в виду социалистическую революцию.
Победившая где-либо в Европе пролетарская революция лишь предполагалась им в качестве близкой перспективы, которую он фиксировал вне прямой связи с русской революцией: «капитализм – в состоянии кризиса, который окончится только уничтожением капитализма, возвращением современных обществ к “архаическому” типу общей собственности…». Очевидно, он считал, что огромная внутренняя сила русской народной социалистической революции, способна обеспечить определенную автономность ее развития.
К. Маркс также затронул вопрос о тех возможностях, которые сельская община открывала для развития сельского хозяйства. «Общая собственность на землю, – писал он, – предоставляет ей естественную базу коллективистского присвоения… С помощью машин, для которых так благоприятна физическая конфигурация русской почвы, она сможет постепенно заменить парцелярную обработку комбинированной обработкой […] Привычка русского крестьянина к артели особенно облегчит ему переход от труда парцелярного к труду кооперативному, который он, впрочем, уже применяет до некоторой степени при косьбе общинных лугов и в таких коллективных предприятиях, как осушка болот и т.д.» (выделено нами. – В. С.). Как видно, в его рассуждениях присутствует общее указание на органичную связь промышленного развития страны и коллективизации сельского хозяйства, о проведении которых должна была позаботиться революционная власть (переход крестьян «от труда парцелярного к труду кооперативному» «с помощью машин» и артели предполагает проведение революционной властью соответствующей социально-экономической политики).
Для реализации этой программы развития сельского хозяйства России, писал он, «нужны две вещи: экономическая потребность в таком преобразовании и материальные условия для его осуществления». Экономическая потребность у общества была. Задачу обеспечения материальных условий, считал К. Маркс, должно было взять на себя революционное обществ: «Что же касается первоначальных организационных издержек, интеллектуальных и материальных, – то русское общество обязано предоставить их “сельской общине”, за счет которой оно жило так долго и в которой оно еще должно искать свой “источник возрождения”» (выделено нами – В. С.).
В результате такой политики должно было произойти изменение социального характера крестьянства (т.е. устранение присущего ему дуализма) в процессе коллективного, машинизированного и высокопроизводительного труда.
Русская социалистическая революция представлялась К. Марксу не как быстротекущий процесс (вариант «введения» коммунизма, в основном, с помощью политических мер, а как строительство социализма, требующий многих лет. Это было обусловлено недостаточным уровнем экономического и социального развития России, необходимостью заимствования и использование достижений капитализма, приспособления сельской общины к новым, не сразу вырабатываемым условиям жизни и труда, их закрепления, развития и т.д.
В. И. Ленин и большевики тоже ничего не знали о мыслях К. Маркса относительно социалистического потенциала российского крестьянства, сохранявшегося и развивавшегося благодаря сельской общине (исключение составляли Д. Б. Рязанов, Н. И. Бухарин, Е. Смирнов, которые в 1912 – 13 годах работали над переводом черновиков писем К. Маркса В. Засулич. Они также руководствовались теорией пролетарской революции и поэтому тоже не отводили сельской общине в ней никакой положительной роли, расценивая ее как пережиток феодализма, мешавший развитию буржуазных отношений в деревне, значит, и отдалявшей начало пролетарской революции. Однако В. И. Ленин являл собой яркий пример творческого отношения к марксизму. В отличие от Плеханова (и меньшевиков) он, искал возможность (в рамках концепции пролетарской революции) вовлечь в борьбу за ее победу ту часть крестьянства, которая, в принципе, могла проявлять в ней какую-то заинтересованность.
Известно, что достичь этого сначала предполагалось с помощью классового союза с крестьянской беднотой (полупролетариат), при политической нейтрализации средних слоев крестьянства, расцениваемых как мелкая буржуазия. Затем, с учетом накопленного политического опыта – с помощью политики военно-политического союза со средним крестьянством при опоре на бедноту. При этом, экономические отношения с крестьянскими хозяйствами намеривались выстраивать на основе продуктообмена, с помощью организации потребительско-сбытовой кооперации, колхозов и совхозов, которые, однако, из-за гражданской войны, разрухи, невозможности оказания крестьянам материально-технической помощи со стороны государства, не получили должного распространения и развития.
После окончания Гражданской войны, стало ясно, что надежды на включение крестьянского хозяйства в социалистическую экономику с помощью системы прямого продуктообмена не оправдались, слабые в хозяйственном отношении колхозы оказались непривлекательными для крестьян, а единоличное крестьянское хозяйство не могло нормально функционировать, не используя рыночные механизмы. Предложенная В. И. Лениным Новая Экономическая Политика учла эти реалии, что позволило предотвратить развитие крестьянской контрреволюции и начать выстраивать взаимоприемлемые и взаимовыгодные хозяйственные отношения с трудящимся крестьянством (экономический союз с ним) на основе товарно-денежных отношений. НЭП позволяла выиграть время для поиска конкретных способов и форм решения аграрно-крестьянского вопроса, отвечавших интересам и рабочих, и крестьян, и интересам построения социализма.
Вместе с тем, В. И. Ленин рассматривал НЭП не просто как уступку крестьянству, а как шаг к социализму по мере продвижения к которому, необходимо будет начать переходить от торговли к товарообмену, а затем – к прямому продуктообмену, позволяющего удовлетворить хозяйственные потребности трудящегося крестьянства. Переход к нему он расценивал как завершение процесса создания фундамента социализма. Такой эволюции НЭПа, по мнению В. И. Ленина, могла способствовать кооперация крестьян.
В. И. Ленина в это время крайне беспокоила нерешенность проблемы вовлечения крестьянства в социалистическое строительство, перспектива обострения отношений с ним, и, вследствие этого, угроза новой крестьянской контрреволюции. Так, например, в марте 1922 г. на XI съезде РКП(б) он говорил, что «с русским капитализмом, с тем, который растет из мелкого крестьянского хозяйства… предстоит в ближайшем будущем бой, срок которого нельзя точно определить. Тут предстоит “последний и решительный бой”, тут больше никаких, ни политических, ни всяких других, обходов быть не может».
Известно, что на VIII съезде РКП(б) он рассчитывал на вовлечение крестьян-середняков в процесс социалистического строительства именно с помощью направления государством в деревню современных средств производства: «Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами… то средний крестьянин сказал бы: “Я за коммунию” (т. е. за коммунизм)» (выделено нами – В. С.). Очевидно, что о продаже тракторов, бензина, тем более машинистов (трактористы, ремонтники) речи быть не могло. Речь могла идти только о предоставлении советским государством крестьянам возможности использования техники и труда механизаторов на условиях продуктообмена между городом и деревней.
Эволюция взглядов большевиков на проблему вовлечения крестьянства в социалистическую революцию и последние работы В. И. Ленина по этой теме, а также ознакомление с черновиками писем Маркса В. Засулич и письма к ней (опубликованы в мае 1924 года, создали условия для того, чтобы по-новому взглянуть на аграрно-крестьянские проблемы в социалистической революции, и, следовательно, на все другие, связанные с ними, практические вопросы строительства социализма в СССР. Однако в руководстве РКП(б) мало кто принял и учел их в своих взглядах. И. В. Сталин был первым, кто воспринял их как руководство к действию и использовал, разрабатывая ключевые проблемы построения социализма в СССР.
Прежде всего, это проявлялось в акцентировании им роли крестьянства, как единственной в данный момент силы, на которую могла опереться Советская власть. Только крестьянство, говорил он, «дает нам прямую помощь теперь же, дает армию, хлеб и пр. С этим союзником, т.е. с крестьянством, мы работаем вместе, мы вместе с ним строим социализм, хорошо ли, плохо ли, но строим, и мы должны уметь ценить этого союзника… Вот почему на первый план нашей работы мы выдвигаем теперь вопрос о крестьянстве».
Кроме того, И. В. Сталин стал иначе, чем В. И. Ленин, оценивать социальную природу трудящегося крестьянина-единоличника, а также его заинтересованность в социализме. Чтобы понять суть разницы в их оценках, достаточно сравнить две цитаты. Напомним, что на XI съезде РКП(б) В.И. Ленин говорил, что «с русским капитализмом, с тем, который растет из мелкого крестьянского хозяйства… предстоит в ближайшем будущем бой… Тут предстоит “последний и решительный бой”, тут больше никаких, ни политических, ни всяких других, обходов быть не может». Последние статьи В.И. Ленина, продиктованные в начале1923 года, не перечеркивают этих оценок и прогнозов. Иначе говоря, реальной ему представлялась перспектива противостояния с крестьянством, как с носителем враждебной социализму силе. Ленину тогда никто не возражал: в этом вопросе все были с ним согласны.
Два года спустя, в мае 1925 года, подводя итоги XVI конференции РКП(б), И. В. Сталин оценивал социально-политический потенциал советского крестьянства уже иначе: «существуют два пути развития земледелия: путь капиталистический и путь социалистический… Как пролетариат, так и, в особенности, крестьянство заинтересованы в том, чтобы развитие пошло по второму пути, по пути социалистическому… диктатура пролетариата, имеющая в своих руках основные нити хозяйства, примет все меры к тому, чтобы победил второй путь, путь социалистический. Само собой понятно, с другой стороны, что крестьянство кровно заинтересовано в том, чтобы развитие пошло по этому второму пути. Отсюда общность интересов пролетариата и крестьянства, покрывающего противоречия между ними» (выделено нами – В. С.).
Прежде у большевиков, в соответствии с «Манифестом коммунистической партии» Маркса и Энгельса, считалось аксиомой, что в социализме заинтересован только пролетариат (городской и сельский), а также крестьянская беднота, классовый интерес которой толкал ее к социалистическому преобразованию деревни и сельского хозяйства.
Теперь И. В. Сталин говорил, что вся масса трудящихся крестьян заинтересована в социализме не меньше, чем пролетариат. … Вслед за этим И. В. Сталин предложил уточнить представление о социальной природе среднего крестьянства, которое большевиками всегда воспринималось как классический представитель мелкой буржуазии.
13 апреля 1926 года, отвечая на записки, поданные ему во время доклада на собрании ленинградской партийной организации об итогах апрельского (1926) пленума ЦК ВКП(б), И.В. Сталин сказал: «Та часть среднего крестьянства, которая не входит в кооперацию, ведет накопление по линии несоциалистической, но назвать середняка капиталистом я не могу». Фиксируя мелкобуржуазный характер этих крестьян, он подчеркивал факт отсутствия у них отношений «хозяин – наемный работник», являющийся необходимым признаком капиталистических отношений. «Капитализм – это такая система хозяйства, – говорил он, – где имеются хозяева, оторванные от производства и наемный труд… в мелком хозяйстве и в среднем хозяйстве такой системы взаимоотношений не имеется, не имеется системы капиталистических взаимоотношений».
Если мелкобуржуазное крестьянство, не имеет такого важного признака капиталистического хозяйства и не является капиталистическим классом даже в условиях капитализма, то, следовательно, крестьянин, в принципе, не чужд социализму, как чужд ему любой капиталист. Фактически, И. В. Сталин указывал на наличие у советского крестьянства такого же дуализма, который Маркс отмечал у русского общинного крестьянства, и, таким образом, развивал мысль о присущем ему социалистическом потенциале. Конечно, И. В. Сталин не отрицал того факта, что из мелкого и мельчайшего крестьянства постоянно растет капитализм с которым необходимо вести борьбу, что незначительная часть крестьян становилась или имела шанс стать кулаком, т.е. капиталистом. Но, вместе с тем, он считал, что это не дает оснований смотреть на все среднее крестьянство исключительно как на класс враждебный социализму, не заинтересованный в нем, как заинтересован в нем пролетариат.
Предложенный И. В. Сталиным поворот аграрно-крестьянской проблемы и взгляда на нее позволял снять важную идеологическую и психологическую препону, мешавшую большевикам увидеть этот дуализм в русском крестьянстве и серьезно расширить прежние представления о возможности вовлечения различных слоев крестьянства в колхозное строительство. Прежде считалось: колхозы будут выгодны для крестьян-бедняков, сбытовая и потребительская кооперация – для крестьян-середняков, кредитная – для кулаков. Сталинская новация позволяла поставить вопрос о начале подготовки массовой (а затем, и сплошной) коллективизации за счет вовлечения в нее и бедняцких, и середняцких хозяйств с использованием привычной им формы – сельскохозяйственной артели.
Вопрос об обеспечении колхозов, современной техникой, принадлежащей государству, также решался в полном согласии с мыслями, высказывавшимися и Марксом, и В. И. Лениным. Колхозы были обеспечены ей государством на договорной основе (МТС), поступление этой техники осуществлялось в массовом и все время возраставшем масштабе, что позволило им начать превращаться в крупные современные сельскохозяйственные предприятия. Только проведение такой коллективизации позволило советской деревне обеспечить страну своей продукцией, процесс индустриализации – людскими ресурсами, а также решить важнейшую социальную задачу – обеспечить превращение мелкобуржуазного крестьянства в класс социалистического общества (колхозное крестьянство).
Какую роль в коллективизации сельского хозяйства и социалистическом преобразовании общества сыграла сельская община? И. В. Сталин сказал об этом вполне определенно 17 мая 1944 года, объясняя прибывшему из США польскому профессору Оскару Ланге принципиальную разницу в подходах к решению аграрно-крестьянского вопроса в стране, где до последнего времени функционировала и развивалась крестьянская община (Россия, СССР) и в стране, где она уже исчезла (Польша). Сталин говорил: «мы начали коллективизацию лишь в 1930 году. До этого времени мы все время проверяли, как к этому отнесется крестьянство. Основой для колхозов послужили супряги, которые раньше существовали у славян. Колхозы должны вырасти сами» (выделено нами – В. С.).
Слушаешь Сталина, вспоминаешь Маркса. Супряга (супружество, супруг, супруга, упряжь и пр.) – совместное хозяйство, общая работа. Содружество по поводу обеспечения жизненного процесса, т.е. община. Совместная обработка земли двумя или несколькими хозяевами, т.е. форма артельной работы. Итак, все дело – в крестьянской общине, в которой формируется и развивается его социалистический потенциал. В российском крестьянстве он был. Его использовали, как и предлагал К. Маркс, в интересах социалистического преобразования советской деревни, сельского хозяйства и всей страны.
Таким образом, коллективизацию сельского хозяйства СССР И. В. Сталин проводил в полном соответствии как с общими теоретическими положениями Маркса, так и с его новой (второй) концепцией развития социалистической революции, намеченной им специально для России. Интересно, что сам Сталин свой вклад в разработку проблем социалистического преобразования сельского хозяйства в СССР оценивал выше, чем в разработку проблем индустриализации. Редактируя текст 1-го издания своей биографии для подготовки 2-го ее издания, он определил их следующим образом. Об индустриализации: «Опираясь на указания Ленина, Сталин разработал положения (вписано И. В. Сталиным вместо слова «учение» (выделено нами – В.С.)) о социалистической индустриализации нашей страны». О коллективизации: «Сталин разработал и претворил в жизнь практически теорию коллективизации сельского хозяйства». Полагаю, И. В. Сталин имел все основания для такой оценки своего вклада в решение самого сложного в теоретическом и практическом отношениях вопроса социалистической революции в России – аграрно-крестьянского. Предложенное им решение позволило превратить борьбу малочисленного российского пролетариата за социализм, в борьбу за него абсолютного большинства народа, а начавшейся в октябре 1917 года пролетарской революции придать характер истинно народной социалистической революции. Этот процесс соответствует представлениям К. Маркса о коллективизации, как втором этапе социалистической революции, подготавливаемом и проводимом революционной властью «сверху» и, в основном, мирными политическими и социально-экономическими средствами.
Оценки И. В. Сталиным социалистического потенциала советского крестьянства, его взгляды на перспективы отношений с ним настолько отличались от принятых ранее в большевистской партии, что позволяют говорить о том, что в середине 1920-х годов на основе творческого соединения результатов анализа опыта революции, проведенного В. И. Лениным, и идей Маркса, он начал глубокую переработку плана строительства социализма в СССР, намеченного и разрабатывавшегося В.И. Лениным. В результате И.В. Сталин не только интегрировал, но и развил ряд фундаментальных теоретических и политических положений К. Маркса и В.И. Ленина относительно возможностей вовлечения российского крестьянства в процесс строительства социализма и обосновал возможность и необходимость начать подготовку социалистического преобразования деревни.
В ходе этой работы речь фактически шла не только о плане построения социализма в СССР, но и о разработке новой концепции социалистической революции. От ленинской концепции ее отличала, в первую очередь и в основном, иная (присущая Марксу) оценка социалистического потенциала российского крестьянства. А от высказанных Марксом идей о социалистической революции в России она отличалась обстоятельной проработкой проблем связанных с сочетанием первой (пролетарской) и второй (условно, «общинно-крестьянской») концепций социалистической революции, которые у Маркса были лишь обозначены в рамках общей постановки вопроса и совершенно не разработаны.
Проти кого був спрямований сталінський удар?
До обґрунтування правової кваліфікації Голодомору як геноциду
Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, доктор історичних наук
Газета «День» № 213-214
22 – 29 листопада, 2018
У прийнятій 9 грудня 1948 р. Конвенції ООН «Про попередження злочину геноциду і покарання за нього» геноцид визначався як дії, спрямовані на знищення повністю або частково будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи як такої. Під знищенням малося на увазі не тільки пряме фізичне нищення, а й навмисне створення життєвих умов, розрахованих на цілковиту або часткову ліквідацію перелічених груп. Конвенція приймалася консенсусом і була ратифікована сталінським урядом тільки після того, як із переліку зникла п’ята група — соціальна. Нищення ворожих соціальних верств населення являло собою офіційну програму так званого соціалістичного будівництва в СРСР. Щодо включення етнічних і національних груп у Конвенцію радянські політики не мали заперечень. «Ленінська національна політика» була настільки облудною, що довести геноцид націй у СРСР, як їм здавалося, нікому не вдасться.
[...]
ТЕРОРИСТИЧНА ПРОДРОЗВЕРСТКА
Хлібозаготівлі у формі продрозверстки уперше були запроваджені В. Леніним у добу так званого воєнного комунізму. Потрібна державі кількість хліба розверстувалася по губерніях, повітах і селах. Продаж хліба на ринку заборонявся, а за вилучений державою хліб селяни практично нічого не отримували. Знаючи, що хліб заберуть, вони обмежували посів до рівня, який задовольняв тільки внутрішні потреби господарства. Тим часом держава, яка прагнула замінити ринок централізованим розподілом продукції, перебрала на себе постачання хліба міському населенню. Реагуючи на скорочення посівних площ, вона реквізувала частку зернової продукції, призначеної для внутрішніх потреб селян. Внаслідок спаду зерновиробництва під впливом продрозверстки починало голодувати як міське, так і сільське населення. Ленін зробив спробу запровадити посівну розверстку, тобто встановити обов’язкові завдання на посів. Зустрівшись, однак, із загрозою війни селян із владою, він відсунув у майбутнє програму комуністичного будівництва і у березні 1921 р. скасував продрозверстку. Держава обмежилася продовольчим податком, тобто завчасно відомим стягненням фіксованого відсотку від продукції, яка була визнана власністю селян і могла реалізуватися на вільному ринку. Так починалася нова економічна політика (неп).
Припиняючи неп, Й.Сталін розгорнув колективізацію сільського господарства, а у відносинах держави з селянством повернувся до продрозверстки. Суцільна колективізація почалася з січня 1930 р. в комунній формі, але наштовхнулася на масові селянські протести. Сталін змушений був зупинити на півроку колективізацію, але восени відновив її в артільній формі, тобто дозволив колгоспникам мати присадибне господарство. Згадуючи повстання 1930 р., він заявив на лютнево-березневому (1937 р.) пленумі ЦК ВКП(б): «Це був один із найнебезпечніших періодів у житті нашої партії».
Обсяг хлібозаготівель дорівнював в Україні у 1930 р. — 436,7 млн пудів, у 1931 р. — 415 млн, у 1932 р. — 262,6 млн. Хлібозаготівлі у чотирьох інших зерновиробних регіонах, разом узятих (Центральна Чорноземна область, Північний Кавказ, Середня і Нижня Волга), становили 400,1 млн пудів у 1930 р., 439,1 млн у 1931 р. і 432,1 млн у 1932 р. Ніколи Україна не виробляла стільки товарного зерна, скільки перелічені регіони Росії. У 1925/26 господарському році з республіки було вивезено 122 млн пудів зерна, в 1926/27 р. — 139 млн пудів.
Підтримування хлібозаготівель у Росії на однаковому рівні впродовж трьох років продрозверстки означало, що у селян, які в цей час ставали колгоспниками, держава забирала зростаючу кількість зерна, призначеного для внутрішнього споживання. Так само, як у 1918 — 1920 рр., це призводило до зростаючої деградації сільського господарства. В Україні, яка витримувала істотно більший тиск, продрозверстка з урожаю 1931 р. призвела у першій половині 1932 р. до голодної смерті десятків тисяч селян. Заготівлі зерна з урожаю 1932 р. виявилися набагато меншими, ніж у попередні роки, але не внаслідок послаблення тиску, а через занепад продуктивних сил села.
Виникає запитання: чому продрозверстка 1930 — 1932 рр. в Україні виявилася особливо репресивною? Планування хлібозаготівель — справа суб’єктивна. Той, хто планує, керується одному йому відомими міркуваннями. Але відповідь є, і вона переконлива. Варто лише поглянути на статистику антирадянських повстань у першому кварталі 1930 р.: Україна — 3 190, Центральна Чорноземна область — 924, Північний Кавказ — 427, Нижня Волга — 267. Повстання в Україні відрізнялися не тільки кількістю. Вони були найнебезпечнішими для влади внаслідок прикордонного становища України і сусідства її з багатомільйонним українським населенням Польщі (Західна Україна). Можна собі уявити, з якими почуттями генсек читав у 1930 р. повідомлення чекістів, які рапортували про заклики повстанців відродити УНР.
Не обмежуючись селянством, сталінський терор поширився на інтелігенцію (хоч «більшовицька» українізація в республіці аніскільки не припинялася), а також на національну церкву. Почалося планомірне винищення владою священиків і першоієрархів УАПЦ.
Порівняння обсягів заготівлі хліба, накладених на Україну і російські зерновиробні регіони, доводить, використовуючи формулу Ноува, що сталінський удар спрямовували скоріше проти українців, серед яких було багато селян, а не проти селян, серед яких було багато українців.
Голодомор датується двома роками. Проте хлібозаготівлі з урожаю 1931 р., які спровокували тяжкий голод у першій половині 1932 р., і сталінський терор голодом, що розпочався в останні місяці 1932 р., — це явища різного порядку. Обидва голодування треба розвести в часі, щоб встановити, яку доказову базу маємо для кваліфікації Голодомору як геноциду.
Реагуючи на голод у першій половині 1932 р., Сталін наказав повернути з портів 15 тис. тонн кукурудзи і 2 тис. тонн пшениці. Зняте з експорту зерно передавалося Україні для голодуючих. У Китаї, Персії і Канаді було закуплено 9,5 млн пуд. зерна. Це дало можливість припинити вивіз хліба з України в Закавказзя і перекинути 4 млн пуд. зерна з Центральної Чорноземної області в Україну.
Ті з селян, кому пощастило виїхати за межі республіки, могли придбати хліб і привезти його додому. 18 червня 1932 р. у листуванні з Кагановичем Сталін роздратовано зауважив: «Кілька десятків тисяч українських колгоспників все ще роз’їжджають по всій європейській частині СРСР і розкладають нам колгоспи своїми скаргами і скиглінням». У довідці чекістів зазначалося, що 21 район (із наявних 484) покинуло 116 тис. біженців. Отже, не кілька десятків тисяч...
Допомога голодуючим, хоч в обмежених масштабах, так само як відсутність боротьби з тими, хто кинувся в Білорусію і Росію за хлібом, засвідчує відсутність прямого наміру знищити голодом певну кількість селян. Намір покарати їх підвищеним обсягом хлібозаготівель був. На природну реакцію колгоспів та одноосібників скорочувати посівні площі держава відповіла вилученням зерна для внутрішніх потреб господарств і не турбувалася про те, як селяни житимуть без хліба. Таку «безтурботність» сталінська влада проявила і в 1946 — 1947 рр., коли катастрофічна посуха різко скоротила зібраний урожай, але з колгоспників вимагали виконання затверджених зобов’язань. Однак в обох випадках Сталін не мав наміру створити селянам умови, несумісні з життям. Це треба зафіксувати, щоб окреслити зміну політики очільників Кремля щодо українського селянства з другої половини 1932 р.
Чекісти нарахували в Україні з січня по 15 липня 1932 р. 923 виступи проти влади, хоча підкреслили, що республіка посіла перше місце серед регіонів за антирадянськими проявами. Чим пояснити, що селянство слабо реагувало на неймовірно тяжку ситуацію, в яку потрапило завдяки діям влади? Масштаби антирадянської активності у першій половині 1932 р. були незмірно меншими, ніж у першому кварталі 1930 р., тоді як дії влади, яка влаштувала масовий голод, — незмірно тяжчими. Причина одна: розкуркуленням Кремль за два роки вилучив із села людей, які могли організувати боротьбу.
Однак саботаж праці в колективному господарстві, який не вимагав організаційних зусиль, перетворився на основну зброю селян у протистоянні з владою. Іноземці були вражені масштабами саботажу. Керівник генерального консульства Польщі Ю. Каршо-Шедлєвські доповідав, що 27 вересня 1932 р. він здійснив політ із Харкова до Одеси, щоб оцінити стан сільськогосподарських робіт. Шестигодинне перебування в повітрі в безхмарний день переконало його в тому, що було зорано і засіяно не більше однієї шостої орних ґрунтів.
Сталін по-різному відреагував на викликану продрозверсткою кризу, крайнім проявом якої ставав загальносоюзний голод. У масштабах країни його реакція була конструктивною. 19 січня 1933 р. Раднарком СРСР і ЦК ВКП(б) прийняли постанову «Про обов’язкову поставку зерна державі колгоспами та одноосібними господарствами». Цією постановою держава визнавала, що вирощена в колгоспі продукція належить колгоспникам, а держава мусить задовольнятися лише її часткою у вигляді податку. Після сплати податку селяни могли реалізувати свою продукцію на вільному ринку, який починав існувати у вигляді колгоспної торгівлі.
Однак заміна продрозверстки натуральним податком супроводжувалася одночасним ударом по українським селянам, а також по кубанським козакам і селянам. Переважну частку останніх складали українці, настроєні возз’єднатися з радянською Україною. Одночасність обох подій ще раз підтверджує необхідність поставити догори дригом формулу Ноува.
НИЩІВНИЙ УДАР
1 січня 1933 р. Сталін звернувся через ЦК КП(б)У до українського селянства з вимогою віддати державі розкрадений і прихований від обліку хліб урожаю 1932 р. Спілкування генсека ЦК ВКП(б) із селянством однієї з республік само по собі було унікальним явищем. Йшлося, використовуючи формулу Ноува, про звернення до українців, а не до селян. Зміст новорічної телеграми був короткий: Сталін повідомляв, що селяни, які виконають вимогу, не репресуватимуться, а щодо всіх інших держава застосує «найсуворіші заходи покарання».
Цій телеграмі передували кілька важливих подій. 22 жовтня 1932 р. політбюро ЦК ВКП(б) відрядило до України надзвичайну хлібозаготівельну комісію на чолі з головою Раднаркому СРСР В. Молотовим. Комісію, яка поїхала в Північно-Кавказький край, очолив секретар ЦК ВКП(б) Л. Каганович. Під диктовку Молотова були прийняті постанови ЦК КП(б)У від 18 листопада і Раднаркому України від 20 листопада з однаковою назвою — «Про заходи до посилення хлібозаготівель». Встановлено, що текст постанов підготував Молотов, після чого узгодив його зі Сталіним. Центральним пунктом обох постанов було запровадження штрафування м’ясом і картоплею тих, хто зривав план хлібозаготівель.
27 листопада Сталін скликав об’єднане засідання Політбюро ЦК і Президії ЦКК ВКП(б), присвячене тавруванню опозиційної групи О. Смирнова. Заперечуючи особисту відповідальність за зрив хлібозаготівель, він назвав дві причини «продовольчих утруднень»: проникнення в колгоспи і радгоспи антирадянських елементів з метою організації шкідництва і саботажу, а також неправильний підхід значної частини сільських комуністів до колгоспів і радгоспів. «Було б нерозумно, — підкреслив генсек, — якби комуністи, виходячи з того, що колгоспи і радгоспи є соціалістичною формою господарства, не відповіли б на удар цих окремих колгоспників і колгоспів нищівним ударом». Суть «нищівного удару» Сталін не роз’яснив, але зазначив, що він буде спрямований проти білогвардійців і петлюрівців.
Механізм «нищівного удару» в останньому кварталі 1932 р. перевірявся на селах, які тривалий час не могли розрахуватися з державою по хлібозаготівлі й були занесені на «чорну дошку». 6 грудня 1932 р. ЦК КП(б)У і РНК УСРР занесли на «чорну дошку» перші шість сіл, а через два дні області піддали такому покаранню до 400 сіл. Італійський віце-консул Л.Сіркана повідомляв своєму послу в Москві про замовчувані радянською пресою методи покарання: «абсолютна заборона покидати межі села або сільськогосподарського підприємства, обшуки і конфіскація продуктів».
Безумовно, селяни намагалися врятувати від обліку запаси хліба, які ще були в їх розпорядженні. Чекісти з підручними активістами почали шукати заховане зерно. Улюбленим сюжетом кіножурналів із новинами, що передували показу фільмів у міських кінотеатрах, були дії активістів, які знаходили «чорні комори» в колгоспах і розкопували ями із зерном в селянських садибах. Надісланий Сталіним з надзвичайною місією в Україну уповноважений ОДПУ В. Балицький доповів 20 грудня на політбюро ЦК КП(б)У, що за два останні тижні чекісти виявили в республіці 7 тис. ям і 100 «чорних комор», в яких знайшли... 700 тис. пуд. зерна. Порівняємо цю цифру з хлібозаготівельним планом, спущеним на Україну: 356 млн пудів.
Отже, у Кремлі знали, що запаси прихованого зерна в Україні незначні. У чому тоді полягав смисл новорічної телеграми Сталіна українському селянству? Телеграма вимагала знайти і покарати селян, які приховували хліб. Отже, вона була адресованою місцевій владі вимогою організувати під прикриттям зимових хлібозаготівель, до яких на селі почали звикати, суцільний подвірний обшук. Ясна річ, шукали й хліб. Як доповіли чекісти, впродовж січня 1933 р. в українському селі знайшли трохи більше мільйона пудів зерна. В цю кількість увійшло й зерно, одержане при переобмолоті соломи та полови, а також конфісковане у перекупників. Якою, однак, була головна мета суцільних обшуків? У телеграмі про це не повідомлялося. Однак у селах, поставлених на «чорну дошку», як свідчив італійський віце-консул, тривали «обшуки і конфіскація продуктів». Конфісковували не тільки продукти, передбачені постановами «Про заходи до посилення хлібозаготівель» від 18 і 20 листопада 1932 р., а все продовольство, отримане селянами з присадибного господарства.
Купка нелюдів не бажала фіксувати на папері намір знищити мільйонні маси співгромадян позбавленням їжі. Але вона мала владу і не завагалася використати її саме таким жахливим способом на підставі усних вказівок. Однак залишилися свідки Голодомору. У 2016 р. Інститут історії України НАН України опублікував книгу обсягом у 720 сторінок, складену з окремих рядків або абзаців з опублікованих сотень спогадів. Саме тих рядків і абзаців, де йшлося про позбавлення їжі. Свідчили люди, яких Голодомор застав у певному місці, й ці місця охоплювали всю територію України. В Атласі Голодомору, створеному фахівцями Гарвардського університету за участю істориків і демографів України, ці місця позначені на карті. Отже, документальна база для доведення сталінського злочину існує.
Поважаючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які загинули жахливою смертю, українці бажають добитися від міжнародної громадськості справедливої правової ідентифікації найбільшої в своїй історії трагедії.

Александр Орлов
Тайная история сталинских преступлений
http://trst.narod.ru/orlov/i.htm
ПРОВОКАЦИЯ
1
1
...1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев вошёл в здание Смольного и выстрелом из револьвера убил наповал члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова, главу ленинградской партийной организации. Убийцу схватили на месте преступления. Из Москвы немедленно выехала в Ленинград специальная комиссия, возглавляемая Сталиным, чтобы расследовать обстоятельства убийства.
...В эти дни меня не было в Советском Союзе, и я мог судить обо всём этом только по официальным сообщениям, появлявшимся в московских газетах. Но с самого начала я был уверен, что дело нечисто: не заслуживали доверия ни первая ("белогвардейская") версия Кремля, ни версия о виновности Зиновьева и Каменева.
Первую версию я не мог принять всерьёз потому, что она содержала басню о ста четырёх казнённых белогвардейских террористах. Как бывший начальник погранохраны закавказских республик, я прекрасно знал, что через строго охраняемые границы СССР террористы просто не могли нагрянуть в таком количестве. Кроме того, в условиях жёсткой советской паспортной системы и всеохватывающего полицейского надзора сто четыре террориста никак не могли одновременно скрываться в Ленинграде. Всё это выглядело тем более подозрительно, что, вопреки обыкновению, газеты, сообщая об их казни, не упомянули даже их имён.
Другая версия — об участии Зиновьева и Каменева в убийстве Кирова — была не менее абсурдной. Из истории партии я отлично знал, что большевики всегда были против индивидуального террора и не прибегали к террористическим актам даже в борьбе против царя и его министров. Они считали подобные методы неэффективными и порочащими революционное движение. А кроме того, Зиновьев и Каменев не могли не отдавать себе отчёта в том, что убийство Кирова было бы на руку именно Сталину, который не преминет воспользоваться им для уничтожения бывших вожаков оппозиции. Так и случилось.
...Самым же странным мне показалось то, что Сталин, едва получив сообщение об убийстве Кирова, отважился лично выехать в Ленинград. Я прекрасно знал, как относился он к собственной безопасности, и его поездка в Ленинград в такой неспокойной обстановке выглядела как нечто из ряда вон выходящее.
...Тайна убийства Кирова прояснилась для меня по возвращении в Советский Союз, в конце 1935 года. Прибыв в Ленинград через Финляндию, я зашёл в здание НКВД, чтобы связаться по специальному телефону с Москвой и заказать спальное место в ночном экспрессе, отправляющемся в Москву. Тут я встретил одного из вновь назначенных руководителей ленинградского управления НКВД, с которым мы вместе служили в Красной армии в гражданскую войну. В разговоре мы, естественно, коснулись тех перемен, которые произошли в Ленинграде после убийства Кирова. Выяснилось, что бывший начальник ленинградского управления НКВД Медведь и его заместитель Запорожец, приговорённые по "кировскому делу" к тюремному заключению, вовсе и не сидели в тюрьме. По распоряжению Сталина, их назначили на руководящие посты в тресте "Лензолото", занимавшемся разработкой богатейших золотых приисков в Сибири. "Им там живётся совсем не плохо, хотя, конечно, похуже, чем в Ленинграде, — сообщил мой старый приятель. — Медведю даже позволили захватить с собой его новый кадиллак". Он добавил, что капризная жена Медведя уже трижды побывала у него в Сибири, каждый раз намереваясь остаться там с мужем, однако всякий раз возвращалась обратно в Ленинград. При этом, как и прежде, ей выделяли в поезде отдельное купе первого класса и полный штат обслуги.
Мой приятель рассказал мне о панике, охватившей Ленинград в связи с убийством Кирова и сталинским визитом. В следствии по этому делу он помогал начальнику Экономического управления НКВД Миронову и заместителю народного комиссара внутренних дел Агранову.
...Мне показалось, что разговор наш носит какой-то поверхностный характер: мой приятель явно не хочет рассказать об убийстве ничего конкретного. Я поднялся, чтобы уйти; тогда он в замешательстве пробормотал: "Дело настолько опасное, что для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всём этом".
Намёк моего приятеля был гораздо более ценен для меня, чем остальная, весьма скудная информация, полученная тогда от него. Этот намёк не только укрепил мои подозрения насчёт того, что обе официальные версии фальшивы, но и показал мне, куда, по-видимому, ведут нити заговора. К тому времени вне критики поставил себя один-единственный человек в СССР, и ни к кому другому не могли быть отнесены эти слова: "для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всём этом".
...У меня не было сомнений, что в Москве мне удастся узнать правду о "кировском деле". Я рассчитывал на нескольких старых товарищей, которые занимали в НКВД столь высокие посты, что должны были представлять себе закулисную сторону этого убийства. Среди них был начальник Экономического управления НКВД Миронов, которого Сталин брал с собой в Ленинград для расследования убийства и который затем был оставлен в Ленинграде в качестве руководителя ленинградского управления НКВД, с полномочиями диктатора.
...Будучи в Москве, я действительно узнал подоплеку кировского дела, — притом быстрее, чем мог ожидать.
Это случилось так. Весной и летом 1934 года у Кирова начались конфликты с другими членами Политбюро. Киров, прямота которого была всем известна, на заседаниях Политбюро несколько раз принимался критиковать своего бывшего патрона Орджоникидзе за противоречивые указания, которые тот давал относительно промышленного строительства в Ленинградской области. Кандидата в члены Политбюро Микояна Киров обвинял в дезорганизации снабжения Ленинграда продовольствием. Одно из таких столкновений с Микояном, ставшее мне известным во всех подробностях, было вызвано следующим. Киров без разрешения Москвы реквизировал часть продовольствия из неприкосновенных запасов Ленинградского военного округа. Ворошилов, в то время народный комиссар обороны, выразил недовольство действиями Кирова, считая, что тот превышает свои полномочия, позволяя себе вмешиваться в дела военного ведомства.
Киров объяснил на заседании Политбюро, что он пошёл на такой шаг, потому что запасы, предназначавшиеся для рабочих, были исчерпаны. К тому же он взял продовольствие у военных только взаймы, собираясь вернуть его, как только прибудут новые поставки. Однако Ворошилов, явно чувствуя поддержку Сталина, не удовлетворился этим объяснением и раздражённо заявил, что, перебрасывая продовольствие с воинских складов в фабричные лавки, Киров "ищет дешёвой популярности среди рабочих". Киров вспыхнул от негодования и со свойственной ему горячностью ответил: "Если Политбюро хочет, чтобы рабочие давали продукцию, их прежде всего необходимо кормить! Каждому мужику известно, — продолжал он, срываясь на крик, — не накормишь лошадь, — она воз и с места не сдвинет!" Микоян возразил, что, по его сведениям, ленинградские рабочие питаются лучше, чем в среднем по стране. Киров не мог отрицать этого. Но он привёл цифры роста продукции ленинградских предприятий и заметил, что этими достижениями с избытком окупаются добавочные пайки рабочих.[1]
"А почему, собственно, ленинградские рабочие должны питаться лучше всех остальных?" — вмешался Сталин. Киров снова вышел из себя и закричал: "Я думаю, давно пора отменить карточную систему и начать кормить всех наших рабочих как следует!"
Эта кировская вспышка была расценена как проявление нелояльности по отношению к самому Сталину. С тех пор как Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть, установилось неписаное правило: никто из членов Политбюро не должен выносить на обсуждение какой бы то ни было вопрос, не получив благословения Сталина.
...Постепенно отношения Кирова с Политбюро обострились до предела, и он старался реже бывать в Москве. Членов Политбюро и самого Сталина особенно злила всё растущая популярность Кирова в народе. Никто из них, не исключая и Сталина, не был умелым оратором. Их публичные выступления были вялыми и нудными. А Киров, напротив, славился своими блестящими речами, зная, как подойти к массам. Он был единственным членом Политбюро, не боящимся ездить по заводам и выступать перед рабочими. Сам когда-то рабочий, он внимательно выслушивал их жалобы и, насколько мог, старался помочь. Многие партийные и промышленные деятели высокого ранга, работавшие в разных городах, пытались добиться перевода в Ленинград: шёл слух, что Киров поощряет инициативу своих подчинённых и выдвигает тех, кто хочет и умеет работать. Его авторитет в Ленинграде был непререкаем. Наркомы в Москве меньше значили для директоров ленинградских предприятий своей отрасли чем Киров.
Огромная популярность Кирова ещё больше возросла после семнадцатого съезда партии, который состоялся в самом начале 1934 года. К съезду всё было намечено и расписано заранее, — даже энтузиазм, с которым делегаты должны были приветствовать вождей. Каждому члену Политбюро, появляющемуся на трибуне, было положено две минуты аплодисментов. Сталину следовало аплодировать целых десять минут. Однако появление Кирова в президиуме съезда вызвало бурю оваций. Ленинградская делегация приветствовала его с таким восторгом, что увлекла своим примером весь съезд. Киров был встречен овацией такой продолжительности, о какой другие члены Политбюро не могли и мечтать. В кулуарах съезда шептались, что на долю Кирова выпал почёт, который предназначался только одному человеку: Сталину.
Раздражённый чрезмерной независимостью Кирова, Сталин решил отозвать его из Ленинграда. Ему было объявлено, что его ждёт назначение на ответственную должность в Москве, в Оргбюро ЦК.
Однако Киров не спешил в Москву. Он выгадывал месяц за месяцем, ссылаясь на то, что необходимо довести до конца ряд важных дел в Ленинграде, начатых при нём. Более того, он всё реже и реже появлялся на заседаниях Политбюро, что выглядело уже вызывающе.
Сталин мог, конечно, задержать Кирова в Москве во время любого из его приездов и воспрепятствовать его возвращению в Ленинград. Но это означало бы открытую ссору, после которой было бы крайне затруднительно назначить Кирова на какую-либо должность в ЦК. Больше того, удержать Кирова в Москве против его воли было не так легко, — разве что арестовать его? Однако тогда, в 1934 году, по отношению к члену Политбюро подобные действия были крайне нежелательны. Отстранение члена Политбюро всё ещё требовало сложной формальной процедуры. Задавшись такой целью, пришлось бы для начала сфабриковать против Кирова обвинение в какой-нибудь антиленинской ереси или в отклонении от генеральной линии партии и развязать против него кампанию критики, которая должна охватить все партийные организации. В данном случае такой путь был для Сталина неприемлем. Подавив троцкистскую и зиновьевскую оппозиции, Сталин много раз писал и заявлял устно, что, очистившись от ереси, партия окрепла и сделалась "сплочённой и монолитной как никогда". Но кампания, направленная против Кирова, наверняка вызовет слухи о новом расколе в партии и о разногласиях в Политбюро. При этом Сталин понимал, что и за рубежом опять появятся сомнения в прочности его режима, чего он никак не хотел.
Он пришёл к выводу, что сложная проблема, вставшая перед ним, может быть разрешена лишь одним путём. Киров должен быть устранён, а вина за его убийство возложена на бывших вождей оппозиции. Таким образом, одним ударом он убьёт двух зайцев. Вместе с ликвидацией Кирова будет покончено с ближайшими сподвижниками Ленина, которые, как бы ни чернил их Сталин, продолжали оставаться в глазах рядовых партийцев символом большевизма. Сталин решил, что, если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев и другие руководители оппозиции пролили кровь Кирова, "верного сына нашей партии", члена Политбюро, — он вправе будет потребовать: кровь за кровь.
Единственной частью государственного аппарата, которая могла помочь Сталину в подготовке этого убийства, являлось ленинградское управление НКВД, отвечавшее за безопасность Кирова. Но начальником этого управления был Филипп Медведь, связанный с Кировым тесной дружбой. Медведя следовало убрать и заменить другим человеком, "более надёжным". У Сталина был на примете такой человек: Евдокимов, давний сотрудник "органов". Несколько лет подряд Сталин брал его с собой в отпуск — не только в качестве телохранителя, но и как приятеля и собутыльника. Евдокимов получил от Сталина больше наград, чем любой другой энкаведист. Это была странная личность с застывшим, точно окаменевшим лицом, сторонившаяся своих коллег. В прошлом заурядный уголовник, Евдокимов вышел из тюрьмы благодаря революции, примкнул к большевистской партии и отличился в гражданской войне. Когда война закончилась, Евдокимов был назначен начальником областного управления ОГПУ на Украине. Там он лично возглавлял карательные операции против антисоветских повстанческих банд.
По распоряжению Сталина Ягода издал приказ о переводе Медведя из Ленинграда в Минск и назначении Евдокимова на его место. Узнав об этом, Киров пришёл в негодование. В присутствии Медведя он позвонил Ягоде и без обиняков начал допытываться, кто дал ему право перемещать ответственных ленинградских работников без разрешения ленинградского обкома. Затем Киров позвонил Сталину и опротестовал недопустимый образ действий Ягоды. Приказ о переводе Медведя из Ленинграда пришлось отменить.
Поскольку с назначением Евдокимова в Ленинград ничего не получилось, у Сталина не было иного выбора, как обратиться за помощью к Ягоде и посвятить его в свои тайные планы, касавшиеся Кирова. Ягода сразу же вызвал из Ленинграда своего протеже и фаворита Ивана Запорожца, который в то время был заместителем Медведя. Они посетили Сталина вдвоём. Избежать личного разговора Сталина с Запорожцем было нельзя: последний никогда не взялся бы за такое чрезвычайное задание, касающееся члена Политбюро, если б оно исходило всего лишь от Ягоды и не было санкционировано самим Сталиным. Получив сталинский наказ, Запорожец вернулся в Ленинград.
Как раз в это время среди бумаг, поступающих в ленинградское отделение НКВД, оказалось секретное донесение, касавшееся молодого коммуниста по имени Леонид Николаев. Этот Николаев был так обозлён тем, что его исключили из партии и связанной с этим невозможностью устроиться на работу, что у него появилась мысль об убийстве председателя комиссии партийного контроля. Этим актом доведённый до отчаяния Николаев намеревался выразить свой протест против партийной бюрократии, чьей жертвой он себя считал.
Донос на Николаева поступил в "органы" от его друга, которому он имел неосторожность рассказать о своих намерениях. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Закономерным было и то, что Запорожец, озабоченный полученным в Москве заданием, заинтересовался личностью Николаева. Встретившись с его "другом" и поговорив с ним, он пришёл к выводу, что слова Николаева не приходится считать пустой болтовней. Дело приняло ещё более серьёзный оборот, когда "друг" выкрал и принёс Запорожцу дневник Николаева.
Дневник был сфотографирован и снова подброшен туда, откуда был украден. На его страницах Николаев подробно описывал свои злоключения: как он был беспричинно "вычищен" из партии, какое бездушное отношение встречал со стороны партийных чинов, когда пытался добиться справедливости, как его уволили с работы и до какой жуткой нищеты докатилась его семья — двое детей, жена и мать. Записи дневника были полны клокочущей ненависти к бюрократической касте, воцарившейся в партии и государственном аппарате.
Чтобы получить возможно более полное представление о личности Николаева, Запорожец решил лично встретиться с ним. Всё тот же "друг" организовал ему якобы случайную встречу с Николаевым, представив Запорожца под вымышленным именем, как своего бывшего сослуживца. Поболтав о том, о сём, они расстались. Николаев произвёл на Запорожца благоприятное впечатление. Теперь "другу" была поставлена новая задача: попытаться ещё более сблизиться с Николаевым, время от времени передавать ему небольшие суммы денег, прикинуться разделяющим его взгляды — и, конечно, сообщать НКВД о каждом его шаге. Сам Запорожец поспешил в Москву поделиться соображениями о том, как лучше использовать подвернувшийся случай. Там он ещё раз был принят Сталиным.
В Москве было решено, что Николаев подходит для реализации намеченного плана. Главное преимущество этого варианта заключалось в том, что Николаев напал на мысль о террористическом акте самостоятельно и вдобавок не подозревает, что с какого-то момента его действия косвенно направляются аппаратом НКВД.
Инструкции, полученные Запорожцем, сводились к одному: постараться перевести террористические замыслы Николаева с некоего члена партийной контрольной комиссии, исключавшей его из партии, на Кирова. За время, пока Запорожец отсутствовал, николаевский замысел превратился в неотвязную манию: его поступок станет сигналом к восстанию против ненавистной партийной бюрократии. "Друг" Николаева предупредил Запорожца, что их подопечный делает попытки раздобыть огнестрельное оружие.
Услышав об этом, Запорожец выразил "другу" опасение, что Николаев, чего доброго, действительно застрелит какого-то работника партконтроля, не имеющего, разумеется, личной охраны. Между тем НКВД намерено взять террориста с поличным, непосредственно перед тем, как он попытается совершить террористический акт. Это удастся сделать, не допуская кровопролития, только в том случае, если Николаев откажется от покушения на какую-то незначительную персону и попытается убить, ну, допустим, Кирова, что заведомо обречено на провал, так как того охраняют денно и нощно. Как только Николаев с револьвером в кармане проникнет, в здание Смольного, его тут же схватят сотрудники НКВД, которые специально будут его поджидать. А от "друга" требуется теперь только одно: внушить Николаеву, что убийство какого-то незначительного чиновника из партконтроля не даст заметного политического эффекта. Зато выстрел, направленный в члена Политбюро, отзовется эхом по всей стране.
Леонид Николаев, как и следовало ожидать, ухватился за идею совершить террористический акт против Кирова. Теперь единственным препятствием к исполнению намеченного было отсутствие револьвера. Николаев рассчитывал украсть револьвер у кого-то из знакомых партийцев. Выяснилось, что в этом нет необходимости: "друг", последнее время так часто приходивший Николаеву на помощь, ссужавший его деньгами, выручил и тут. Ему удалось "добыть" револьвер... В основном все необходимые приготовления были позади. С помощью "друга" Николаев придумал предлог, чтобы получить пропуск в Смольный. Друзья отправились за город — проверить оружие в действии.
Наконец настал решающий день: Николаев, с портфелем в руках, явился в Смольный и получил пропуск в комендатуре НКВД, ведавшей охраной здания. У входа в главный коридор Смольного охранники заглянули в пропуск и разрешили Николаеву войти. Но не успел он сделать и двух шагов, как один из них вернул его и потребовал показать, что в портфеле. Там лежал револьвер и записная книжка. Николаева, тут же задержали и препроводили в комендатуру. Уже за одно хранение огнестрельного оружия без специального на то разрешения полагалось три года тюрьмы. А если б ещё работники смольнинской комендатуры заглянули в его записную книжку — сразу выяснилась бы истинная цель Николаева, приведшая его в Смольный...
Но прошёл час или два — и всё чудодейственно переменилось: злоумышленнику вернули револьвер и записную книжку и предложили покинуть здание Смольного.
Поражённый происшедшим, Николаев прибежал к своему "другу" и всё ему рассказал. Тот не мог прийти в себя от изумления, видя перед собой Николаева после всего, что случилось, живым и невредимым.
Происшествие в Смольном было для Запорожца малоприятной неожиданностью. Выходит, он не сделал всё от него зависящее, чтобы обеспечить Николаеву свободный доступ к Кирову. А Москва уже рассчитывала, что именно в этот день получит информацию о результате покушения. Теперь всю ответственность за неудачу возложат, конечно, на Запорожца.
Когда ему сообщили о происшествии, он приказал коменданту Смольного освободить задержанного и вернуть ему портфель, револьвер и записную книжку. Ещё оставалась надежда, что Николаева удастся направить в Смольный вторично, на этот раз избежав промаха. Всё зависело от дальнейшего поведения Николаева.
А тот был крайне угнетён своей неудачей. В подавленном состоянии он выслушивал рассуждения "друга" о том, что надо бы сделать ещё одну попытку... Однако это продолжалось недолго. Дней через десять Николаев уже сам стал поговаривать о повторении попытки покушения. К нему вернулось прежнее чувство уверенности. "Друг", следуя инструкциям Запорожца, советовал на этот раз проникнуть в Смольный в вечернее время.
Вечером 1 декабря 1934 года Николаев вторично появился в Смольном — с тем же самым портфелем, где вновь лежали записная книжка и револьвер. На этот раз Запорожец всё предусмотрел. Получив пропуск, Николаев благополучно миновал охранников у входа и без помех вошёл в коридор. Там никого не было, кроме человека средних лет, по фамилии Борисов, который числился личным помощником Кирова. В перечне работников Смольного он фигурировал как сотрудник специальной охраны НКВД, однако не имел ничего общего с охранной службой.
Борисов только что приготовил поднос с бутербродами и стаканами чая, чтобы нести его в зал заседаний, где как раз собралось бюро обкома. Заседание бюро шло под председательством Кирова, и Николаев терпеливо ждал. Войдя в зал, Борисов сказал Кирову, что его зовут к прямому кремлёвскому телефону. Спустя минуту Киров поднялся со стула и вышел из зала заседаний, прикрыв за собой дверь.
В тот же момент грянул выстрел. Участники заседания бросились к двери, но открыть её удалось не сразу: мешали ноги Кирова, распластанного на полу в луже крови. Киров был убит наповал. Тут же распростёрлось тело другого человека, не известного членам бюро. Это был потерявший сознание Николаев. Рядом с ним валялись револьвер и портфель. Кроме убитого и убийцы, в коридоре не было ни души. Члены бюро были немало удивлены тем обстоятельством, что отсутствовал даже кировский охранник. Прошло немного времени, и в коридоре появились сотрудники НКВД, прибывшие арестовать Николаева.
Сталин и Ягода были извещены об убийстве Кирова немедленно. Спустя некоторое время Ягода позвонил начальнику Ленинградского управления НКВД Медведю и сообщил ему, что выезжает в Ленинград, сопровождая Сталина.
Запорожец выполнил порученное ему задание. Но его роль на этом не кончилась. В ленинградском управлении НКВД никто, кроме него, не имел понятия, что, по замыслу "хозяина", террористический акт против Кирова должен был в конечном счёте привести к осуждению Зиновьева и Каменева. Запорожец знал, что Сталин, появившись здесь, наверняка захочет повидать Николаева, чтобы определить, годится ли тот для открытого судебного процесса. Необходимо было срочно получить от Николаева соответствующее "признание". В этом случае, как только Сталин прибудет, можно будет положить перед ним показания, в которых Николаев чистосердечно заявляет, что убил Кирова по прямому указанию Зиновьева и Каменева.
Запорожец мобилизовал всю свою энергию, чтобы вырвать у Николаева такое признание, пока Сталин находится ещё в пути. Впрочем, он не предвидел особого сопротивления со стороны убийцы. По опыту работы в НКВД он знал, что даже ни в чём не повинный человек, ошеломлённый арестом и деморализованный неуверенностью в судьбе близких, остающихся на свободе, становится в руках следователей крайне податливым и склонен подписать всё, в чём его обвиняют. Ну а Николаев только что совершил чудовищное преступление — убил члена Политбюро. Теперь он был близок к беспамятству. В своей тюремной камере, обращаясь к надзирателям, он кричал, что ничего не имеет лично против Кирова и совершил террористический акт в минуту отчаяния. От своего "друга" Запорожец узнал, что Николаев очень привязан к жене и детям. На случай, если он станет отказываться от нужных показаний, Запорожец собирался пригрозить ему, что его близкие тоже пострадают. Этого было достаточно, чтобы Николаев подписал любое признание.
...Рассчитывая на полную деморализацию Николаева, Запорожец решил действовать без промедления и распорядился доставить арестованного к нему.
Едва войдя в его кабинет, Николаев узнал в высоком энкаведистском начальстве своего случайного знакомого и понял, что стал жертвой политической провокации. Запорожец обманулся в своих расчётах. Перед ним предстал не жалкий неврастеник, согнувшийся под тяжестью страшного преступления и ареста, а упрямый и бесстрашный фанатик. Николаев прямо заявил Запорожцу, что, ничего не имея против Кирова лично, он всё же доволен, что ему удался этот террористический акт, открывающий эру борьбы с привилегированной кастой партийных бюрократов.
Этот разговор закончился трагикомической сценой. Из кабинета Запорожца послышался крик, дверь кабинета рывком распахнулась, и Запорожец выскочил в приёмную, преследуемый Николаевым с поднятым над головой стулом. Николаева тут же схватили и отправили обратно в тюрьму.
...Появление Сталина в Ленинграде было большим событием. Ему был отведён в Смольном целый этаж и сверх того с десяток комнат выделен во внушительном здании НКВД. Эти помещения были полностью изолированы от всех остальных.
Сталин немедля принялся за дело. Первым, кого он вызвал к себе, был Филипп Медведь, начальник Ленинградского управления НКВД. Разумеется, этот вызов был чистой формальностью, — Сталин прекрасно знал, что тому ничего не известно об убийстве Кирова, кроме чисто внешних фактов. Медведь был быстро отпущен, и сразу же последовал вызов Запорожца. Сталин говорил с ним с глазу на глаз больше часу, после чего распорядился доставить Николаева.
Его разговор с Николаевым происходил в присутствии Ягоды — народного комиссара внутренних дел, Миронова — начальника Экономического управления НКВД, и оперативника, доставившего Николаева из камеры. Николаев, войдя в комнату, остановился у порога. Голова его была забинтована. Сталин сделал ему знак подойти ближе и, всматриваясь в него, задал вопрос, прозвучавший почти ласково:
— Зачем вы убили такого хорошего человека?
Если б не свидетельство Миронова, присутствовавшего при этой сцене, я никогда бы не поверил, что Сталин спросил именно так, — настолько это было непохоже на его обычную манеру разговора.
— Я стрелял не в него, я стрелял в партию! — упрямо отвечал Николаев. В его голосе не чувствовалось ни малейшего трепета перед Сталиным.
— А где вы взяли револьвер? — продолжал Сталин.
— Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у Запорожца! — последовал дерзкий ответ.
Лицо Сталина позеленело от злобы. "Заберите его!" — буркнул он. Уже в дверях Николаев попытался задержаться, обернулся к Сталину и хотел что-то добавить, но его тут же вытолкнули за дверь.
Как только дверь закрылась, Сталин, покосившись на Миронова, бросил Ягоде: "Мудак!" Не заставляя себя специально просить, Миронов направился к выходу. Несколько минут спустя Ягода слегка приоткрыл дверь, чтобы вызвать Запорожца. Тот оставался наедине со Сталиным не более четверти часа. Выскочив из этой зловещей комнаты, он зашагал по коридору, даже не взглянув на Миронова, продолжавшего сидеть в приёмной.
Дело Николаева окончилось полным провалом.
"Друг", оказавшийся агентом Запорожца, подбивал его проникнуть в Смольный, тот же "друг" достал ему револьвер — и Николаева уже не оставляло подозрение, что НКВД сам подстрекал его убить Кирова.
Значит, нечего было и думать об открытом суде по "делу об убийстве Кирова". Если б даже и удалось заручиться обещанием Николаева давать показания против Зиновьева и Каменева, на это обещание нельзя было положиться. Кто мог дать гарантию, что то же чувство фанатичного протеста, которое толкнуло Николаева на террористический акт, не овладеет им снова? У него мог вырваться крик, что это не Зиновьев и Каменев, а сам НКВД подстрекал его к убийству. Сталин не мог пойти на столь явный риск. Ему оставалось поторопить НКВД с организацией закрытого процесса, где Николаев предстал бы перед тайным трибуналом.
В то же время следовало что-то объяснить народу относительно убийцы Кирова. Безусловно, Сталин не мог объявить, что молодой коммунист действовал в одиночку и по собственной инициативе, протестуя против засилья бюрократического режима, установленного партией. Выгоднее было представить его ставленником русских белогвардейцев. Так появился на свет миф о белоэмигрантах, которые якобы пробрались в СССР из Польши, Литвы и Финляндии для организации террористических актов.
Сталин, конечно, постарался замести следы топорной работы Запорожца. Прежде всего он распорядился ликвидировать "друга", не потрудившись даже допросить его. Затем были вызваны заместители Кирова, у которых следовало выведать, не слишком ли многое им известно об этом деле. Но они оказались людьми искушёнными и сообразили, что выказывать свою осведомлённость или проницательность в данном случае просто опасно. В их рассказах Сталина насторожила только одна деталь: услышав выстрел и выскочив из зала заседаний в коридор, они обнаружили, что постоянного кировского охранника поблизости почему-то нет, да и Борисов, только что вызвавший Кирова из зала, куда-то бесследно исчез. Они его никогда больше не встречали...
В общем-то в таинственном исчезновении Борисова не было ничего сверхъестественного. Он был арестован Запорожцем как знавший кое-что о роли НКВД в организации убийства. Не могу судить, что именно было известно Борисову, но сам этот факт неприятно поразил меня. Дело в том, что Борисов был известен своей абсолютной преданностью Кирову и, казалось бы, не должен был сознательно подыгрывать Запорожцу в ущерб своему "хозяину".
Сталин знал, что Борисов арестован и находится в Большом доме[2]. Поговорив с заместителями Кирова, он прибыл в это здание и потребовал привести Борисова. Их разговор был очень кратким, и очень скоро Борисов по распоряжению Сталина был в полной тайне ликвидирован. Итак, Сталин сразу же избавился от двух свидетелей.
Сталинский поезд увёз тело Кирова в Москву. Гроб для прощания с убитым установили, как было принято, в Колонном зале Дома Союзов. Газеты сообщали, что Сталин, стоя в почётном карауле, испытал такой приступ горя и любви к погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу и поцеловал мёртвого. Как бывший ученик духовной семинарии он в этот момент не мог не сознавать, что напрашивалась параллель между этим его поцелуем и поцелуем Иуды Искариота, запечатленным на лице Христа.
То обстоятельство, что Запорожец так неуклюже выполнил порученное ему тайное задание и что НКВД оставил следы своего участия в убийстве Кирова, заставило Сталина сначала отказаться от идеи обвинить в этом убийстве бывших вождей оппозиции. Но Сталин всегда отступал лишь на время. Поспешно расстреляв непосредственного убийцу и тайно уничтожив опасных свидетелей — посторонних, знавших или подозревавших о роли НКВД в этом преступлении, — Сталин вновь обрел спокойствие и принял решение вернуться к первоначальному замыслу. О том, что это произошло очень скоро, можно судить хотя бы по тому, что официальная пресса, вначале объявившая, что убийство Кирова — дело рук белогвардейских террористов, вдруг изменила тон. Ещё бы — в связи с этим убийством Сталин прямо распорядился привлечь к ответственности Зиновьева, Каменева и других бывших лидеров оппозиции.
На закрытом судебном процессе, состоявшемся 15 января 1935 года, не удалось выдвинуть никаких доказательств соучастия Зиновьева и Каменева в этом преступлении. Тем не менее, под давлением членов военного трибунала и в результате неотступных домогательств Ягоды, на которого в свою очередь давил Сталин, Зиновьев и Каменев согласились признать, что они несут "политическую и моральную ответственность" за убийство, в то же время отрицая какую-либо причастность к нему. На этом шатком основании им вынесли обвинительный приговор и осудили обоих на пять лет лагерей.
Александр Орлов
Тайная история сталинских преступлений
http://trst.narod.ru/orlov/i.htm
ВЫШИНСКИЙ
Не зная закулисной стороны московских процессов, мировая общественность склонна была считать прокурора Вышинского одним из главных режиссеров этих спектаклей. Полагали, что этот человек оказал существенное влияние на судьбу подсудимых. В таком представлении нет ничего удивительного: ведь действительные организаторы процессов (Ягода, Ежов, Молчанов, Агранов, Заковский и прочие) всё время оставались в тени и именно Вышинскому было официально поручено выступать на "открытых" судебных процессах в качестве генерального обвинителя.
Читатель будет удивлён, если я скажу, что Вышинский сам ломал себе голову, пытаясь догадаться, какими чрезвычайными средствами НКВД удалось сокрушить, парализовать волю выдающихся ленинцев и заставить их оговаривать себя.
Одно было ясно Вышинскому: подсудимые невиновны. Как опытный прокурор, он видел, что их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. Кроме того, руководство НКВД сочло нужным раскрыть Вышинскому некоторые свои карты и указать ему на ряд опасных мест, которые он должен был старательно обходить на судебных заседаниях.
Вот, собственно, и всё, что было известно Вышинскому. Главные тайны следствия не были доступны и ему. Никто из руководителей НКВД не имел права сообщать ему об указаниях, получаемых от Сталина, о методах следствия и инквизиторских приёмах, испытанных на каждом из арестованных, или о переговорах, которые Сталин вёл с главными обвиняемыми. От Вышинского не только не зависела судьба подсудимых, — он не знал даже, какой приговор заранее заготовлен для каждого из них.
Многих за границей сбила с толку статья одной американской журналистки, пользующейся мировой известностью. Эта дама писала о Вышинском, как о чудовище, пославшем на смерть своих вчерашних друзей — Каменева, Бухарина и многих других. Но они никогда не были друзьями Вышинского. В дни Октября и гражданской войны они находились по разным сторонам баррикады. До 1920 года Вышинский был меньшевиком. Мне думается, многие из старых большевиков впервые услышали эту фамилию только в начале 30-х годов, когда Вышинский был назначен генеральным прокурором, а увидели его своими глазами не ранее 1935 года, когда их ввели под конвоем в зал заседаний военного трибунала, чтобы судить за участие в убийстве Кирова.
...Побывав когда-то в здании на Лубянке в качестве заключённого, Вышинский побаивался и этого здания, и работавших там людей. И хотя в советской иерархии он занимал куда более, высокое положение, чем, скажем, начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, он по первому вызову Молчанова являлся к нему с неизменной подхалимской улыбочкой на лице. Что же касается Ягоды — тот и вовсе удостоил Вышинского только одной встречи за всё время подготовки первого московского процесса.
Задание, полученное от НКВД, Вышинский исполнял с чрезвычайным старанием. На протяжении всех трёх процессов он всё время держался настороже, постоянно готовый парировать любой, даже самый слабый намёк подсудимых на их невиновность, Пользуясь поддержкой подсудимых, как бы соревнующихся друг с другом в самооговоре, Вышинский употреблял всевозможные трюки, дабы показать миру, что вина обвиняемых полностью доказана и никакие сомнения более не уместны. Одновременно он не упускал случая превозносить до небес "великого вождя и учителя", а в обвинительной речи неизменно требовал для всех подсудимых смертной казни.
Ему самому очень хотелось выжить — и в этом был главный секрет его рвения. Он пустил в ход все свои актерские способности, играл самозабвенно, ибо ставка в его игре была высока. Зная, что перед ним на скамье подсудимых — невинные жертвы сталинского режима, что в ближайшие часы их ждёт расстрел в подвалах НКВД, он, казалось, испытывал искренне наслаждение, когда топтал остатки их человеческого достоинства, черня всё, что в их биографиях казалось ему наиболее ярким и возвышенным. Выходя далеко за рамки обвинительного заключения, он позволял себе заявлять что подсудимые "всю жизнь носили маски", что "под прикрытием громких фраз эти провокаторы служили не делу революции и пролетариата, а контрреволюции и буржуазии". Так поносил вождей Октября человек, который в октябрьские дни и на всём протяжении гражданской войны был врагом революции и республики Советов!
С садистическим наслаждением оскорбляя обречённых на смерть, он клеймил их позорными кличками — "шпионы и изменники", "зловонная куча человеческих отбросов", "звери в человеческом облике", "отвратительные негодяи"...
"Расстрелять их всех, как бешеных псов!" — требовал Вышинский. "Раздавить проклятую гадину!" — взывал он к судьям.
Нет, он не был похож на человека, исполняющего свои обязанности по принуждению. Он обрушивался на беззащитных сталинских узников с таким искренним удовольствием не только потому, что Сталину требовалось свести с ними счёты, но и потому, что сам был рад возможности посчитаться со старыми большевиками. Он знал, что, пока старая гвардия сохраняет в партии свой авторитет и пользуется правом голоса, таким, как Вышинский, суждено оставаться париями.
Говоря так, я основываюсь на своих собственных наблюдениях: мне пришлось работать с Вышинским в Верховном суде в те далекие времена, когда оба мы были прокурорами по надзору и состояли в одной партийной ячейке.
...В конце того же 1923 года в стране была объявлена чистка партии. Нашу партийную ячейку "чистил" Хамовнический райком, и мы явились туда в полном составе. Райкомовская комиссия партийного контроля, непосредственно занимавшаяся чисткой, состояла из видных большевиков, а возглавлял её член. Центральной комиссии партконтроля. Каждый из нас написал свою биографию и приложил к ней поручительства двух других членов партии. Сдал автобиографию и Вышинский. В ней он указал, что при царском режиме отсидел один год в тюрьме за участие в забастовке.
Комиссия партконтроля вызывала нас по одному и, задав несколько вопросов, возвращала предварительно отобранный партбилет. Для старых большевиков из Верховного суда с этой процедурой не было связано никаких проблем, да и вопросов им практически не задавали. Для них это была просто мимолётная встреча со старыми товарищами, заседавшими в комиссии. Некоторые из нас, более молодых, пройдя комиссию, не спешили уйти, а оставались ждать, пока не закончится рассмотрение всех дел. Наступила очередь Вышинского. Для него это было серьёзным испытанием: во время предыдущей чистки, в 1921 году, его исключили из партии и восстановили с большим скрипом лишь год спустя.
Прошло полчаса, ещё час, ещё один, ещё полчаса — а Вышинский всё не появлялся. Кто-то уже устал ждать и ушёл. Наконец Вышинский выскочил, возбуждённый и красный как рак. Выяснилось, что комиссия не вернула ему партбилет. Это означало исключение из партии. Вышинский не рассказал нам, что происходило в течение этих трёх часов за закрытой дверью. Он ушёл в дальний конец вестибюля и там в волнении ходил взад и вперёд.
Когда, направляясь к выходу, мы поравнялись с ним, Вышинский возбуждённо воскликнул:
— Это возмутительное издевательство! Я этого так не оставлю. Пойду в ЦК и швырну им в физиономию свой партбилет!
Было не очень ясно, как он собирается швырнуть партбилет, который у него отобрали. Мы посоветовали ему не совершать опрометчивых действий, а обсудить всё с Крыленко или Сольцем. Сольц, председатель юридической коллегии Верховного суда, одновременно возглавлял Центральную комиссию партийного контроля и руководил чисткой партии по всей стране.
Уже отойдя несколько кварталов, мы услышали сзади торопливые шаги. Нас снова догонял Вышинский. Переведя дыхание, он горячо попросил нас никому не передавать его слов насчёт ЦК. Мы обещали.
На следующий день встревоженная девушка-секретарша вошла в зал заседаний и сказала, что в кабинете Сольца истерически рыдает Вышинский. Перепуганный старик выскочил из кабинета, чтобы принести ему воды.
Арон Сольц стал революционером ещё в конце прошлого столетия. Несмотря на то что он подвергался бесчисленным арестам и провёл много лет в царских тюрьмах и ссылке, душа его не ожесточилась. Он оставался добродушным, отзывчивым человеком.
...Друзья Сольца называли его "совесть партии", в частности, потому, что он возглавлял Центральную комиссию партконтроля (ЦКК) — высший в стране партийный суд. На протяжении нескольких лет одним из моих партийных поручений было докладывать этой комиссии о членах партии, находившихся под следствием, и меня сплошь и рядом восхищал человеческий, неказённый подход Сольца к этим делам.
Именно Сольц; с его добрым и отзывчивым характером, спас Вышинского. Он поставил вопрос на обсуждение в ЦК, после чего Вышинскому был возвращён партбилет. Несколько дней спустя Сольц зашёл в нашу "совещательную комнату", где мы как раз пили чай. Увидев Сольца, его старый друг Галкин немедленно накинулся на него за такое заступничество. Сольц виновато улыбнулся: "Чего вы от него хотите? Товарищ работает, старается... Дайте ему показать себя. Большевиками не рождаются, большевиками становятся. Не оправдает доверия — мы всегда сможем его исключить".
Из-за растущего потока жалоб, поступавших отовсюду в апелляционную коллегию, я оказался так занят, что почти перестал бывать на заседаниях юридической коллегии. Как-то раз я заглянул туда — Вышинский как раз в это время делал доклад на тему "Обвинение в политическом процессе". Его выступлению нельзя было отказать в логике, притом он отлично владел русским языком и умело пользовался риторическими приёмами. Председательствующий Сольц согласно кивал, не скрывая одобрения.
Мне не понравилась тогда склонность Вышинского переигрывать, его преувеличенный пафос. Но в общем становилось уже ясно, что это — один из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров. Мне начало казаться, что наши партийцы несправедливы к Вышинскому; оставалось надеяться, что со временем они изменят отношение к нему.
Однако вскоре произошел небольшой, но характерный эпизод, показавший, что интуиция их не подвела. Зимой 1923 года прокурор республики Николай Крыленко вызвал нескольких работников, в том числе Вышинского и меня, и сообщил, что Политбюро поручило ему разобраться в материалах секретного расследования деятельности советских полпредств за рубежом. Ввиду огромного объёма материалов Крыленко с согласия Политбюро привлекает к данной работе нас. Нам придётся вместе с ним изучить их и доложить ЦК свои соображения. Работать будем у него дома, по вечерам, так как он обещал эти документы никуда не передавать.
В тот день мы так и не ушли из роскошного крыленковского особняка, владельцем которого до революции был князь Гагарин. Предстояло изучить тридцать или сорок папок, и Крыленко распределил их между нами. Он пояснил при этом, что нарком государственного контроля Аванесов, проводивший расследование, обнаружил в советских представительствах за рубежом скандальные факты коррупции и растранжиривания секретных денежных фондов и что некоторые служащие подозреваются в сотрудничестве с иностранными разведками.
...Документы оказались куда менее интересными, чем можно было ожидать. Они содержали в основном бездоказательные обвинения, которые возводили друг на друга не ладившие между собой бюрократы, подогреваемые своими вздорными супругами. Лишь незначительная часть бумаг свидетельствовала о фактах растраты, моральной распущенности и других вещах, способных нанести ущерб престижу советской страны. Случаев государственной измены мы не обнаружили вовсе.
Все вечера Крыленко работал вместе с нами. Время от времени он подходил к кому-нибудь из нас и смотрел, как подвигается работа. Заглядывая через плечо Вышинского, он заинтересовался делом одного советского дипломата, обвинявшегося в чрезмерно роскошном образе жизни, сближении с женой одного из подчинённых и других грехах. Вышинский предлагал исключить его из партии, предать суду и приговорить к трём годам заключения.
— Как это так — три года? — недовольным тоном спросил Крыленко. — Вы тут написали, что он дискредитировал советское государство в глазах Запада. За такое дело полагается расстрел!
Вышинский сконфузился и покраснел.
— Вначале я тоже хотел предложить расстрел, — подхалимским тоном забормотал он, — но...
Тут он запнулся, пытаясь подыскать объяснение. Не найдя его и окончательно растерявшись, он промямлил, что признаёт свою ошибку. Крыленко насмешливо уставился на него, — похоже, что замешательство Вышинского доставляло ему удовольствие.
— Да здесь вовсе нет преступления — неожиданно произнёс он и, показывая пальцем на запись Вышинского об исключении этого дипломата из партии и предании его суду, заключил:
— Пишите: закрыть дело!
Я не смотрел на Вышинского, не желая смущать его ещё больше. Но Вышинский вдруг разразился угодливым смехом:
— Как вы меня разыграли, Николай Васильевич! Вы меня сбили с толку... Когда вы предложили дать ему расстрел, я совсем растерялся. Я подумал, как же это я так промахнулся и предложил только три года! А теперь... ха-ха-ха...
Смех Вышинского звучал фальшиво и вызывал чувство гадливости.
Я уже говорил, что многие считали Вышинского карьеристом, пролезшим в партию, но я никогда не ожидал, что он окажется таким беспринципным и лишённым всякой морали, что выразит готовность идти на всё — оправдать человека, расстрелять его, — как будет угодно начальству.
Положение самого Вышинского было шатким. Пока в стране пользовались влиянием старые большевики, дамоклов меч партийных чисток постоянно висел над ним. Вот почему разгром оппозиции и преследование этих людей, сопровождавшее этот разгром, были Вышинскому на руку.
Сталину требовалось, чтобы во всех советских организациях были люди, готовые обвинить старых большевиков в антиленинской политике и помочь избавиться от них. Когда в результате такой клеветы ЦК увольнял их с ключевых постов, клеветники в порядке вознаграждения назначались на освободившиеся места.
Неудивительно, что в этой ситуации Вышинский смог сделаться "бдительным оком" партии и ему было поручено следить за тем, чтобы Верховный суд не отклонился от ленинского пути. Теперь ему не приходилось дрожать перед каждой чисткой: напротив, из партии исключались те, кто подозревался в сочувствии преследуемым ленинским соратникам. Вышинского в этом подозревать не приходилось. Его назначили генеральным прокурором, и он стал активно насаждать "верных членов партии" в судебные органы и прокуратуру. Естественно, там не оказалось места таким, как Николай Крыленко — создатель советского законодательства и вообще всей советской юридической системы. Он был объявлен политически ненадёжным, хотя и не принадлежал ни к какой оппозиции. А Вышинский, годами раболепствовавший перед Крыленко, получил задание выступить на совещании юридических работников и осудить крыленковскую политику в области юстиции как "антиленинскую и буржуазную".
Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большевики один за другим убираются из Верховного суда. Крыленко исчез в начале 1938 года. Одновременно исчезла его бывшая жена Елена Розмирович, работавшая до революции секретарём Заграничного бюро ЦК и личным секретарём Ленина[2].
В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясён случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились глазами.
Я немедленно зашёл в кабинет Бермана и попросил его помочь Галкину, чем только можно. Берман сообщил мне, что Галкин арестован на основании поступившего в НКВД доноса, будто он осуждает ЦК партии за роспуск Общества старых большевиков. Донос поступил от Вышинского.
Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин ещё раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие "нужный человек на нужном месте". В целом государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счёты со старыми большевиками.
Александр Орлов
СЕНСАЦИОННАЯ ПОДОПЛЕКА
ОСУЖДЕНИЯ СТАЛИНА
https://history.wikireading.ru/243882
(Сокращено)
Экс-генерал НКВД наконец-то может раскрыть потрясающие факты, заставившие красных отречься от своего прежнего идола
От редакции журнала "Лайф"
Осенью 1937 года, отлучившись со своего поста в Испании, я случайно встретил в Париже в Советском павильоне международной выставки Павла Аллилуева, шурина Сталина и моего друга. Заметив его глубокую подавленность и желание поделиться с кем-нибудь своими тревогами, я договорился с Аллилуевым о встрече в тот же вечер.
Долгое время мы шли вдоль Сены и наконец очутились в слабоосвещенном маленьком кафе. Наш разговор вращался вокруг ужасной картины кровавых чисток, происходивших тогда в Советском Союзе. В какой-то момент я, естественно, спросил его о подоплеке наиболее поразительного эпизода в ряду страшных событий: казни маршала Михаила Тухачевского и других маршалов и генералов Красной Армии.
Павел прищурился и говорил медленно, по-видимому, стараясь, чтобы я хорошо запомнил его слова. "Александр, — сказал он, — никогда не спрашивай о деле Тухачевского. Узнав об этом, ты словно вдохнешь отравляющий газ".
Я спрашивал себя тогда и два года спустя в Нью-Йорке, когда прочел сообщение о внезапной и необъяснимой смерти Павла, какое количество отравляющего яда он вдохнул. Он и не подозревал тогда, сидя со мной в этом захолустном кафе, что я сам был переполнен опасными сведениями. Ибо я был, может быть, единственным из находившихся за границей в то время, кто знал жуткую историю, стоявшую за чисткой Красной Армии в 1937 году, ту историю, которую я здесь в первый раз излагаю.
Это сообщение является самым сенсационным и конечно же тщательнейше охраняемым секретом в чудовищной карьере Иосифа Джугашвили, вошедшего в историю под именем Сталина. Эта тайна терзала душу Сталина и обрекала на смерть любого, кого подозревали в проникновении в нее.
В 1936 году нарастал шторм сталинских чисток. В качестве генерала НКВД я присутствовал на первом московском процессе этого года, с самого его начала и вплоть до объявления приговора о смертной казни. Тогда я полагал, что это самая трагическая из человеческих драм, свидетелем которой мне довелось быть. Но наихудшее было припасено Сталиным для меня, моих друзей, для России.
В сентябре 1936 года Политбюро направило меня в Испанию как советника при республиканском правительстве страны по контрразведывательной деятельности и для организации партизанской войны за линией войск Франко.
Во время одной из поездок мой автомобиль сбил заграждение, причем я получил перелом двух позвонков. Некоторое время я пребывал в испанском госпитале, затем в середине января 1937 года был переведен в Париж и помещен в клинику. Там мне пришлось свыше месяца пролежать пластом на спине.
Однажды — в послеобеденное время 15 или 16 февраля — зазвонил стоявший у моей постели телефон. Это был резидент НКВД во Франции Смирнов, голос его звучал весело. "Послушай, — сказал он, — у меня есть для тебя сюрприз, какого у тебя в жизни еще не было". Вслед за тем я услышал в трубке другой голос, который действительно осчастливил меня.
Это был мой двоюродный брат, Зиновий Борисович Кацнельсон. Он только что прибыл в Париж и хотел навестить меня.
Зиновий был не просто моим родственником. Он был другом моего детства, и наша взаимная привязанность росла из года в год.
Когда я был зачислен в Московский университет, я жил с ним в одной комнате в маленькой квартире его матери. Во время гражданской войны мы вместе служили в 12-й Красной Армии и вместе делили фронтовые опасности. Потом мы оба быстро продвинулись на службе у нового режима.
К 1937 году Зиновий был членом Центрального Комитета компартии Советского Союза, а по службе — заместителем главы НКВД на Украине. Он имел звание командарма второго ранга и близких друзей среди могущественнейших лиц страны. Одним из них был Станислав Косиор, член Политбюро. Как один из руководителей тайной полиции Зиновий еженедельно встречался со Сталиным.
Когда Зиновий со Смирновым вошли в мою палату, мы были счастливы побыть вместе. Зиновий сказал мне, что он в Париже по случаю встречи с двумя важными советскими агентами. Мы болтали о всякой всячине, пока не ушел Смирнов.
Зиновий сразу же сделался серьезным. Он не знал, что я в Париже, и намеревался повидать меня в Испании. "Какое несчастье, что Смирнов знает о нашей встрече", — сказал Зиновий. Я был изумлен. Почему встреча двоюродных братьев должна оставаться тайной? Зиновий быстро объяснил мне — почему. На своей госпитальной койке в Париже я содрогнулся, услышав историю, которую Зиновий решился мне рассказать.
Я излагаю здесь рассказ Зиновия, добавляя только немногие пояснения в необходимых случаях.
Когда Сталин вместе с шефом НКВД Генрихом Ягодой разрабатывал режиссуру первого из московских процессов, он сделал предложение, которое Ягода воспринял как приказ. Было бы полезно, пояснил Сталин, если бы НКВД смог показать, что некоторые из намеченных жертв чисток были агентами Охранки, царской тайной полиции перед революцией.
Соответственно Сталин предложил подделать "документальные доказательства". Это не было трудным поручением. Подделка документов была обычным делом для советской полиции. Однако Ягода счел рискованным изготовлять документы для открытого процесса: обман мог обнаружиться.
Он решил избрать более безопасный метод — найти бывшего офицера Охранки, уцелевшего во время революции, и заставить его засвидетельствовать, что некоторые из отобранных Сталиным обвиняемых были царскими агентами. Признания, подтверждающие эти свидетельства, получат от обвиняемых, и затем свидетель и заключенные расскажут свои версии на открытом процессе. "Доказательство" того, что предполагаемые вожди революции были на деле агентами царской Охранки — а это наиболее постыдное преступление по советским меркам, — должно было потрясти страну.
Однако найти живого бывшего офицера Охранки оказалось делом более трудным, чем представлял себе Ягода. Многие из царских агентов были арестованы и расстреляны в первые годы революции, некоторые бежали за границу, остальные обзавелись фальшивыми документами, особенно в провинции. Лучшим способом обнаружить такого офицера, пришло в голову Ягоде, был бы розыск в архивах царской полиции. Эти старые документы должны были навести на родственников сотрудников Охранки, а возможно, и на них самих.
Полицейские архивы старого режима были разбросаны по многим городам. Значительная часть их сохранилась в Ленинграде. Большое количество документов находилось с первых лет советской власти в одном из помещений, которым пользовался предшественник Ягоды, Менжинский. Теперь они были переданы надежному сотруднику НКВД по фамилии Штейн, который был помощником начальника отдела, готовившего московские процессы.
Однажды Штейн наткнулся на изящную папку, в которой Виссарионов, заместитель директора Департамента полиции, хранил документы, видимо, предназначенные только для его глаз. Листая их, Штейн увидел анкету с прикрепленной к ней фотографией Сталина — тогда еще молодого человека. Он подумал, что ему удалось обнаружить некие реликвии, касающиеся деятельности великого вождя в большевистском подполье.
Штейн уже собрался было бежать к Ягоде с радостным сообщением о ценной исторической находке. Но при повторном осмотре папки у него возникло подозрение. Приподнятое настроение сменилось страхом и ужасом, когда он приступил к чтению. Обширные рукописные докладные и письма были адресованы Виссарионову, почерк же принадлежал диктатору и был хорошо знаком Штейну. Папка действительно прекрасно характеризовала Сталина, однако не Сталина-революционера, а Сталина — агента-провокатора, который неутомимо работал на царскую тайную полицию.
Несколько мучительных дней Штейн прятал папку Виссарионова в своем кабинете. Наконец решение было принято. Он забрал папку и полетел в Киев, чтобы показать ее своему бывшему начальнику по НКВД, который был к тому же его лучшим другом. Это был В. Балицкий, очень влиятельный член ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Балицкий также руководил НКВД Украины. Мой двоюродный брат Кацнельсон был близким другом Балицкого с первых дней революции, а теперь и его заместителем.
Когда Балицкий изучил обжигающую руки папку, то был потрясен не менее Штейна. Он позвал к себе Зиновия. Они детальнейшим образом исследовали каждый документ в подшивке. Хотя и простым глазом было видно, что документы подлинные, все провели необходимую экспертизу и анализы, чтобы установить возраст бумаги и конечно же идентичность почерка.
Не оставалось и тени сомнения: Иосиф Сталин долгое время был агентом царской тайной полиции и действовал в этом качестве до середины 1913 года. Папка содержала не только агентурные донесения Сталина. Оказалось, что Сталин отчаянно пытался сделать карьеру в царской тайной полиции.
Некоторые из сталинских сообщений от 1912 года относились к Четвертой Думе. Большевистская фракция в этой Думе состояла из шести депутатов во главе с Романом Малиновским. Когда архивы Охранки были открыты после первой так называемой Февральской революции, выяснилось, что Малиновский все это время был царским агентом и ловко обманывал своих коммунистических коллег. После прихода большевиков к власти он был судим, признан виновным и расстрелян.
В то время как Ленин руководил деятельностью партии из-за границы, Малиновский был главным депутатом в России и имел право принимать новых членов в Центральный Комитет партии, когда считал это необходимым. Именно Малиновский в 1912 году включил Сталина в состав Центрального Комитета. Сталин жил тогда в Санкт-Петербурге и в ряде случаев служил посредником между Малиновским и Лениным.
Занимая столь доверительное место в рядах большевиков, Сталин несколько раз был арестован, но всегда ухитрялся бежать.
Из сталинских сообщений Виссарионову совершенно ясно следовало, что Коба знал все о Малиновском. Было также очевидно, что Сталин чрезвычайно ревниво относился к власти Малиновского как в аппарате царской полиции, так и в коммунистической партии. Он стремился сам стать основным агентом полиции в большевистском движении.
В январе 1913 года оба, Сталин и Малиновский, присутствовали на конференции, которая состоялась на квартире Ленина в Кракове (тогда австрийская часть Польши), обеспечивая подробное ее освещение для Охранки. Среди других на конференции были Зиновьев, Каменев и Трояновский, будущий посол в Соединенных Штатах. Сталинское донесение шефам полиции оказалось в папке Виссарионова. Оно характеризовало названных участников, описывало столкновения их мнений и подытоживало принятые решения.
Вскоре после Краковской конференции Сталин решил устранить Малиновского со своего пути на секретной работе в Охранке. Для достижения этой цели он стал действовать через головы своих непосредственных начальников в полиции. Написал письмо товарищу министра внутренних дел Золотареву, руководившему работой Департамента полиции, частью которого была Охранка. Сталин вежливо напоминал товарищу министра, что он имел честь быть представленным ему в приватной комнате некоего ресторана.
То же письмо содержало нападки на Малиновского. Пристально наблюдая за Малиновским на Краковской конференции, писал Сталин, он пришел к убеждению, что тот в глубине души был на стороне Ленина и работал усерднее для большевиков, чем для полиции.
Но сталинская попытка свалить Малиновского не удалась. На полях письма была начертана резолюция товарища министра внутренних дел, которая гласила примерно следующее: "Этот агент ради пользы дела должен быть сослан в Сибирь. Он напрашивается на это". По-видимому, Золотарев передал сталинское сообщение Виссарионову и выразил свое неудовольствие, что агент обратился к нему, минуя непосредственное начальство.
Несколько недель спустя Сталин был арестован вместе с другими большевиками в Санкт-Петербурге, по иронии судьбы попав в западню, которая была уготована ему Малиновским.
После прежних арестов Сталина обычно ссылали в относительно сносное место, и он совершал побег оттуда с удивительной легкостью. Как ему удавалось устроить побег, Сталин никогда не говорил. Одно только это давало основания предполагать, что он был царским агентом, которого арестовывали для сохранения внешней видимости и вскоре после этого отпускали.
Но в середине 1913 года, поскольку его хозяева в Охранке были сыты им по горло, Сталин был осужден на четыре года и выслан в Туруханский край, севернее Полярного круга. Легкие побеги его прекратились. Он оставался в далекой северной ссылке вплоть до Февральской революции.
Таково было поразительное содержание документов, открытых Штейном, доставленных Балицкому и моему двоюродному брату Зиновию, которые признали их аутентичными.
Что теперь делать со взрывоопасной информацией? Зиновий рассказал мне далее, что он и Балицкий тотчас сообщили об этих фактах двум своим друзьям, которые также считались самыми влиятельными на Украине. Это были генерал Якир, командующий украинскими вооруженными силами, и Станислав Косиор, член Политбюро, секретарь Коммунистической партии Советского Союза, в действительности диктатор на Украине. (Косиор был также шефом быстро восходящего человека в коммунистической иерархии по имени Никита Хрущев. Косиор, которого "ликвидировали" в 1938 году, был "реабилитирован" на XX съезде партии).
Круг посвященных в ужасную тайну расширялся. Генерал Якир полетел в Москву и обсуждал дело со своим другом Тухачевским, человеком из высшего комсостава Красной Армии, чья личная неприязнь к Сталину была известна. Тухачевский доверился заместителю наркома обороны Гамарнику, которого уважали за моральную чистоту. Уведомлен был о присходящем и Корк. Эти лица были названы мне Зиновием. Других военачальников, видимо, уведомили позже.
Из этого вырос заговор, возглавленный Тухачевским, с целью положить конец правлению Сталина. Кошмар кровавых чисток, которые тогда происходили, создавал атмосферу бедствия, морального отвращения и душевных мук, что и требовалось для заговора. Внезапное осознание того, что тиран и убийца, ответственный за нагнетение ужасов, был даже не подлинным революционером, а самозванцем, креатурой ненавистной Охранки, побудило заговорщиков к проведению своей акции. Они решились поставить на карту свою жизнь ради спасения страны и избавления ее от вознесенного на трон агента-провокатора.
В феврале 1937 года генералы Красной Армии находились в состоянии "сбора сил", как назвал это Зиновий. Они еще не достигли согласия в отношении твердого плана переворота. Впрочем, Тухачевский склонялся к следующей схеме действий.
Под каким-либо благовидным предлогом он убедил бы наркома обороны Ворошилова (ныне Председателя Президиума Верховного Совета) просить Сталина собрать высшую конференцию по военным проблемам, касающуюся Украины, Московского военного округа и некоторых других регионов, командующие которых были посвящены в планы заговора. Тухачевский и другие заговорщики должны были явиться со своими доверенными помощниками. В определенный час или по сигналу два отборных полка Красной Армии перекрывают главные улицы, ведущие к Кремлю, чтобы заблокировать продвижение войск НКВД. В тот же самый момент заговорщики объявляют Сталину, что он арестован. Тухачевский был убежден, что переворот мог быть проведен в Кремле без беспорядков.
Существовало два мнения, как объяснил мне Зиновий, что делать после этого со Сталиным. Тухачевский и другие генералы полагали, что Сталина надо просто застрелить, после чего созвать пленарное заседание ЦК, которому будет предъявлена полицейская папка. Косиор, Балицкий, Зиновий и другие (по-видимому, группа лиц, не принадлежавших к армии) думали арестовать Сталина и доставить его на пленум ЦК, где ему предъявили бы обвинение в его полицейском прошлом.
Перед тем как покинуть меня, Зиновий сказал с тревогой: "В случае провала, если нас с Еленой пристрелят, я хотел бы, чтобы ты и Мария позаботились о моей маленькой дочке". Елена была его женой, Мария — моей. Его дочери было тогда три года, и он был к ней страстно привязан. На какой-то момент у него появились слезы. Я понял, что ради спасения дочери он был готов проделать путь от Украины до Испании, если бы это потребовалось, чтобы подготовить меня к доброму или плохому исходу.
"Но как может все кончиться провалом? — приободрил я Зиновия. — Тухачевский — уважаемый руководитель армии. В его руках Московский гарнизон. Он и его генералы имеют пропуска в Кремль. Тухачевский регулярно докладывает Сталину, он вне подозрений. Он устроит конференцию, поднимет по тревоге оба полка — и баста".
Я продолжал говорить, что обычный риск, связанный с любым заговором, — возможность того, что один из его участников провалит всю конспирацию, — здесь исключен. Никто в здравом рассудке не пошел бы к Сталину, чтобы сказать ему о полицейском досье, ибо немедленная ликвидация была бы наградой за такое откровение.
Мы обнялись, расцеловались в обе щеки, и Зиновий ушел. Я никогда больше его не видел.
Спустя несколько дней я возвратился в Испанию. Неделя за неделей, месяц за месяцем следил я за газетами и использовал каждую свободную минуту, чтобы включить на коротких волнах радиоприемник. Стоило только кому-нибудь спросить меня: "Вы слышали новости?", и я подпрыгивал как ужаленный. Я ждал своих новостей.
11 июня 1937 года я ехал в своем автомобиле от франко-испанской границы к Барселоне. Погода была чудесной. Я смотрел на волнистые холмы и слушал нежную музыку французской радиостанции. Внезапно музыка оборвалась и последовало сообщение: "Радио Тулуза! Специальный выпуск! Советский маршал Тухачевский и ряд других генералов Красной Армии арестованы по обвинению в измене. Они предстанут перед военным судом".
Уже на следующее утро официальное советское сообщение поведало пораженному миру, что военный суд состоялся и восемь высших чинов — Тухачевский, Якир, Корк, Уборевич, Путна, Эйдеман, Фельдман и Примаков — казнены. Позже стало известно, что Штейн, сотрудник НКВД, нашедший сталинское досье в Охранке, застрелился. Косиор был казнен, несмотря на свой высокий пост в Политбюро. Гамарник покончил жизнь самоубийством еще до ликвидации генералов. Балицкий был расстрелян.
Где-то в середине июля 1937 года до меня дошли сведения, что мой двоюродный брат Зиновий Кацнельсон расстрелян. И поныне я ничего не знаю о судьбе его жены и маленькой дочери.
После коллективной казни узкого круга заговорщиков, которые знали о службе Сталина в Охранке, последовали массовые аресты и казни других, кто мог знать что-то о папке или кто был близок к казненным. Каждый военный, который прямо или косвенно был обязан своим постом одному из уничтоженных генералов, становился кандидатом на тот свет. Сотни, а вскоре и тысячи командиров уволокли со службы и из своих домов в подвалы смерти.
Первый московский процесс, которому я был свидетелем, скоро стал казаться мягким по сравнению с развязанным бешеным разгулом террора. Были скошены и свидетели и режиссеры армейской чистки — люди, которые могли знать тайну досье Сталина. Маршалы и генералы, которые подписали фальсифицированный протокол Военного суда над Тухачевским, исчезли. Исчезли и легионы сотрудников НКВД.
В октябре 1937 года один из высших чинов НКВД, Шпигельглас, прибыл навестить меня в Испанию. Аресты командиров Красной Армии уже коснулись моего ближайшего окружения. Говоря о часах, которые предшествовали аресту и казни Тухачевского, Шпигельглас поведал мне: "На самой верхушке царила паника. Все пропуска в Кремль были внезапно объявлены недействительными. Наши войска НКВД находились в состоянии боевой готовности. Это должен был быть целый заговор!
Дело Тухачевского имело удивительные последствия. Стараясь скрыть истинные причины чистки, Сталин заклеймил генералов как предполагаемых шпионов нацистской Германии. Обвинение было явно смехотворным хотя бы потому, что трое из восьми убитых генералов — Якир, Эйдеман и Фельдман — были евреями. Но сталинский обман был настолько успешным, что в течение ряда лет все больше и больше журналистов и историков писали о сотрудничестве маршала Тухачевского с нацистами как об установленном факте. Почти все писавшие ссылались на президента Чехословакии Эдуарда Бенеша как источник своей информации.
Такой искушенный мемуарист, как Уинстон Черчилль, писал (хотя и некоторыми оговорками): "Он (Бенеш) был информирован, что через Советское посольство в Праге шел обмен сообщениями между важными лицами в России и германским правительством. Это была часть так называемого заговора армии и членов старой гвардии коммунистов, собиравшихся свергнуть Сталина и ввести новый режим, который вел бы прогерманскую политику. Президент Бенеш, не теряя времени, сообщил обо всем, что мог выяснить, Сталину. После этого последовала безжалостная, но, по-видимому, небесполезная чистка среди военных и политиков в Советской России и серия процессов в январе 1937 года, в которых Вышинский, официальный обвинитель, сыграл такую блестящую роль".
Говорят, что Хрущев и связанные с ним люди жаждали личной мести Сталину, который столь долго их унижал. Кто верит этому, тот не знает людей, которые в течение двадцати лет были подручными диктатора: он всегда учил их ставить политическую целесообразность выше личных чувств. Сталин ненавидел Ленина, который отрекся от него в своем предсмертном завещании; он травил вдову Ленина; уничтожил всех личных друзей Ленина. Но политик Сталин знал, что ему было выгодно. Год за годом он возводил Ленина в божество и представил самого себя подлинным его пророком.
Почему же Хрущев и его коллеги не действовали подобно Сталину? Ведь они были его ближайшими помощниками много лет. Они унаследовали сталинскую власть. Почему же они не увековечили культ Сталина и не воспользовались им?
Было, несомненно, нечто такое, что оставляло им только один выход: полностью отречься от Сталина и сделать это быстро. Этим "что-то", я убежден, явилось открытие неопровержимых доказательств того, что Сталин — агент-провокатор царской тайной полиции.
Как бы ни было на самом деле, мне кажется несомненным, что документальное подтверждение того, что Сталин — полицейский агент, было предъявлено нынешнему "коллективному руководству". У кремлевской компании не было иного выхода, как попытаться перерезать пуповину, которая связывала ее с узурпатором и самозванцем. Риск был громадным, но без быстрого и полного разрыва с царским агентом на них самих могло лечь проклятье. У них не было другой возможности навсегда положить конец просачиванию страшной тайны, после того как не стало Сталина, скрывавшего ее. Маршал Жуков и другие могли предупредить их о том, что факты нельзя будет замолчать иначе, как только полностью покончив с мифом о Сталине.
После того как я порвал со сталинским правительством в 1938 году и бежал со своей семьей из Испании в Канаду и наконец в Соединенные Штаты, я написал Сталину пространное письмо и приложил к нему список преступлений диктатора, которые мне были известны из первых рук. Таким путем я намеревался спасти жизнь моей тещи и матери, которые оставались в России. Я предупредил Сталина, что, если они пострадают, я сразу же опубликую то, что знаю о нем. Я также уведомил Сталина, что, если я буду убит его палачами, все факты обнародуют после моей смерти. Я чувствовал, что такие предупреждения могут сдержать диктатора.
Но я не известил тирана, что посвящен в самую страшную из его тайн. Иначе, думал я, Сталин придет в ярость и любой ценой доберется до меня, подвергнет пыткам, чтобы узнать, где скрыты мои бумаги, убьет меня.
К 1953 году моя жена и я целых пятнадцать лет ничего не слышали о наших матерях; мы считали, что их нет в живых. Так я приступил к напечатанию своих статей в журнале "Лайф" и своей книги "Тайная история сталинских преступлений".
Однако даже после смерти Сталина я все еще не осмеливался опубликовать то, о чем узнал от двоюродного брата Зиновия. Группа, которая захватила власть в Кремле, казалось мне, чтила память Сталина и могла преследовать меня столь же яростно, как это делал бы сам Сталин.
К счастью, нынешний поворот событий в Советском Союзе сделал возможным для меня самому обнародовать факты. Хрущев, несомненно, знает о них, и уже нет причин хранить молчание.
1956 г.
https://history.wikireading.ru/243886
Историк Михаил Гефтер, изучая феномен "сталинщины", как-то заметил: Сталин во всех своих действиях настолько связан с "избыточной кровью", что "это крушит всякое рациональное объяснение — и его самого, и нас, и истории как таковой". И все же поиск такого рационального объяснения в зарубежной литературе шел давно. На Западе еще в 1956 году была выдвинута гипотеза о связи кровавой трагедии 1937 года в СССР с "агентурным" прошлым Сталина.
Вскоре после XX съезда КПСС американский журнал "Лайф" опубликовал статью Александра Орлова "Сенсационная тайна проклятия Сталина" (Orlov. "The Sensational Secret Behind the Damnation of Stalin". — from Life Magazine, April 23, 1956). У статьи оказалась непростая судьба.
Долгие годы Александр Орлов считался у нас "изменником родины", нелишне в этой связи воспроизвести оценку, которую дают ему в последнее время компетентные сотрудники нашей внешней разведки: "Судьба его во многом трагична и противоречива. Справедливо опасаясь быть репрессированным, он остался на Западе. Однако он не выдал никого из тех разведчиков, которых знал. Например, знаменитую пятерку вместе с Кимом Филби.
Весьма шатким выглядит предположение Орлова, что именно предъявление Хрущеву пресловутой "папки" стало причиной разоблачений Сталина на XX съезде. Хотя, заметим, о провокаторстве Сталина Хрущеву сообщила О. Г. Шатуновская, но уже после XX съезда; ход этим сведениям члена Комитета партийного контроля, расследовавшей преступления Сталина, дан не был (об этом О. Г. Шатуновская сообщила Е. Плимуку — одному из авторов настоящей статьи).
Разумеется, главным подтверждением правоты изложенной версии могла бы стать находка "папки" Виссарионова или ее копии. Но окружение Тухачевского было вырезано Сталиным с такой беспощадностью, что надежда на подобную находку почти пропадает.
Косвенно подтверждают правоту Орлова откровенно провокаторский характер действий Сталина. Машину террора он стал разгонять после убийства Кирова 1 декабря 1934 г., почти сразу же направив ее против бывших вождей большевизма. В начале 1937 года сталинское НКВД через своего агента генерала Скоблина запросило у гестапо (!) компрометирующие данные на Тухачевского, каковые и были изготовлены с благословения и по приказу самого Гитлера; подборка этих "документов" была в мае 1937 г. куплена агентами НКВД. Видный сотрудник службы безопасности Вальтер Шелленберг, сообщая об этих фактах, заключает в своих "Мемуарах": "Дело Тухачевского явилось первым нелегальным прологом будущего альянса Сталина с Гитлером, который после подписания договора о ненападении 23 августа 1939 года стал событием мирового значения".
Похоже, что Сталин, узнав о заговоре, сознательно и целенаправленно создавал в стране обстановку кровавой вакханалии, чтобы иметь возможность беспрепятственно расправиться с прославленными командирами Красной Армии. Даже на фоне избиений бывших вождей большевизма и расправ с командирами производства убийство тысяч военачальников РККА было ни с чем не сравнимым злодеянием.
Оценивая всю эту историю, вероятно, стоит вспомнить, что департамент царской полиции в 1907 году рекомендовал любым способом "подымать своих сотрудников" в "наиболее законспирированные центры революционных партий"...
Евгений Примак, Вадим Антонов
Игорь Гарин "Агент охранки"
... В 1937-м году (обращаю особое внимание на дату!) 10-тысячным тиражом и в самом спешном порядке Партиздат ЦК ВКП(б) под редакцией Лаврентия Берия (!) опубликовал книгу «Батумская демонстрация 1902 года». В книгу включен фрагмент из воспоминаний Доментия Вадачкории о товарище Сосо: «Спустя несколько дней товарищ Сосо был арестован. Затем его отправили в кутаисскую тюрьму, откуда выслали в Сибирь. После побега из ссылки товарищ Сосо вновь приехал в Батуми. Помню рассказ товарища Сосо о его побеге из ссылки. Перед побегом товарищ Сосо сфабриковал удостоверение на имя агента при одном из сибирских исправников. В поезде к нему пристал какой-то подозрительный субъект-шпион. Чтобы избавиться от него, товарищ Сосо сошел на одной из станций, предъявил жандарму свое удостоверение и потребовал от него арестовать эту “подозрительную” личность. Жандарм задержал этого субъекта, а тем временем поезд отошел, увозя товарища Сосо…».
Как в 1937-м стала возможной эта публикация? Какими соображениями руководствовался Берия, включая этот, по меньшей мере, странный эпизод в книгу? Возможно, ситуацию несколько проясняет еще одна сталинская провокация, которая описана Хрущевым и касается его встречи со Сталиным, тоже происходившей в достопамятном 1937 году. «Это всё чекисты, — говорил Сталин, — стали делать и подбрасывать нам материал, вроде бы кто-то дал им показания. И на меня есть показания, что тоже имею какое-то темное пятно в своей революционной биографии».
Стоп! Внимание! Далее Хрущев поясняет: «Хоть и глухо, но бродили все же слухи, что Сталин сотрудничал в старое время с царской Охранкой». Во до чего докопались! Но зачем — теперь уже не Берия, а самому Сталину — потребовалось копошить прошлое? Что — так глубоко сидело?..
В литературе сохранились сведения о существовании текста доноса на группу социал-демократов, враждебно относившихся к Кобе, и под ним подпись его самого... такая бумага действительно была обнаружена «органами» и передана на уничтожение Кобулову и Берия. Естественно, это произошло на погибель всем участникам операции по изъятию компрометирующих Сталина документов. Это одна из причин того, что удельное количество жертв сталинского террора среди чекистов было выше средних «показателей» по стране.
Реальные отношения Кобы с российской полицией были куда более сложными, чем служба «платным агентом». Кстати, плата как раз меньше всего его интересовала, гораздо больше — личная безопасность. Что до «платы», то он мог получать деньги от бандитских «экспроприаций», проводившихся для пополнения партийной кассы, но никогда не злоупотреблял награбленными средствами. Сталин руководил дерзкими закавказскими «эксами». Камо и Цинцадзе были его подельниками, и грабежи так пришлись по душе, взыскующей мести, что даже возник конфликт с противниками открытого бандитизма из собственного лагеря. В 1907 году на V съезде РСДРП в Лондоне была принята резолюция, запрещающая грабежи. Но поскольку Ленин голосовал против нее, Коба, естественно, не прекратил бандитские операции, закамуфлированные под партийные экспроприации. По мнению одного из первых биографов Сталина Асад-бека, как бандит, он довольствовался малым, а всё остальное отсылал Ленину.
Именно на грабежах он «засветился» в полиции. Подробности таковы. Когда жандармы подловили банду во время нападения на инкассатора, сразу стало ясно, что полиция имеет дело не с обычными ворами, а с «идейными». Правила игры устроили обе стороны: одна «стучит» на подельников, другая, говоря на современном языке, «крышует», то есть помогает не «засветиться» среди своих, быстро бежать из мест, не столь отдаленных, после заслуженного наказания. Авантюристу и провокатору Кобе эта «двойная игра» пришлась по душе, тем более, что он быстро узрел, что «стучать» можно избирательно, тем самым просто и умело расправляясь с личными врагами и конкурентами.
В период с 1902 по 1913 год Коба шесть раз подвергался арестам и пять раз бежал из мест заключения. Некоторые его «побеги» до такой степени «шиты белыми нитками», что я так и не могу уразуметь, как его не «вычислили» свои. Может, особенно и не стремились «вычислить»?..
Начав как хитрый и изворотливый агент-провокатор, Сталин стал еще более хитрым и изворотливым вождем. Абсолютно ясно, что он боролся не с идеями, а с людьми, — я делаю этот вывод из того, что, искореняя врагов, скажем, того же Троцкого, он часто реализовывал чужие программы действий. Отнюдь не случайно Бухарин называл промышленную политику Сталина «вторым исправленным и дополненным изданием троцкизма», а A. Ноув без обиняков называл Cталина «вором политических одежд троцкистской оппозиции».
Сталин-вождь во многом, слишком во многом, содержался в Кобе разбойнике, «стукаче», провокаторе, террористе, антисемите-погромщике. Раз уж возникло слово «погромщик», еще раз напомню, что сталинский антисемитизм образца 1952-1953 годов имел глубокие корни. Когда Коба вернулся со съезда РСДРП в Лондоне (1907 год), он написал для «Бакинского пролетария» статью «Записки делегата». В ней есть прелюбопытнейший момент: подчеркивая, что среди меньшевиков преобладают евреи, Сталин задавался то ли шуточным, то ли серьезным вопросом: не пришла ли пора нам, большевикам, устроить в партии погром? Напомню, что то было время зарождения русского фашизма, регулярных еврейских погромов... Видимо, с тех пор идея «погрома в партии» глубоко засела в его сознании — вся последующая история тому развернутое свидетельство...
Механизм массовых репрессий
Из книги
О.В.Хлевнюк «Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы», 1996
http://aleksandr-kommari.narod.ru/hlevnjuk_stalin_kniga.htm
В силу определенных, прежде всего, политических причин документы о сталинской репрессивной политике в последние годы стали доступными в сравнительно полном объеме. Широкомасштабная реабилитация, деятельность обществ бывших узников лагерей способствовали публикации многочисленных документальных свидетельств практически во всех регионах страны. Одновременно открывались материалы руководящих инстанций, в том числе "особые протоколы" заседаний Политбюро, в которых фиксировались решения о проведении репрессивных акций. Основываясь на этих документах, можно утверждать, что "чистка" 1937-1938 гг. была целенаправленной операцией, спланированной в масштабах государства. Она проводилась под контролем и по инициативе высшего руководства СССР.
Подобные предположения, основанные на случайных свидетельствах и догадках, делались давно. Однако даже А.Солженицын, посвятивший свой "Архипелаг Гулаг" именно теме государственно управляемого террора, отказывался в них верить. "Вспоминают старые арестанты, — писал он, — что будто бы и первый удар был массированным, чуть ли не в какую-то августовскую ночь по всей стране (но зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю)". Документы, однако, подтверждают эти наблюдения очевидцев.
2 июля 1937 года Политбюро санкционировало отправку секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий следующей телеграммы: "Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки, вернувшихся в свои области, — являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых отраслях промышленности.
ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.
ЦК ВКП (б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество подлежащих выселению".
В последующие несколько недель с мест приходили списки "троек" и информация о количестве "антисоветских элементов". На их основе в НКВД готовился приказ о проведении операции. 30 июля заместитель наркома внутренних дел Н.И.Ежова М.П.Фриновский, назначенный ответственным за проведение акции, направил на утверждение Политбюро оперативный приказ наркома внутренних дел "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов". Приказ предписывал начатъ операцию, в зависимости от региона, с 5 по 15 августа и закончить в четырехмесячный срок.
Все репрессируемые, согласно приказу, разбивались на две категории: первая — подлежащие немедленному аресту и расстрелу, вторая — подлежащие заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. Всем областям, краям и республикам (на основании информации о количестве "антисоветских элементов", поступившей с мест в Москву) доводились лимиты по каждой из двух категорий. Всего было предписано арестовать 259450 человек, из них 72950 расстрелять. Эти цифры были заведомо неполными, так как в перечне отсутствовал ряд регионов страны. Приказ давал местным руководителям право запрашивать у Москвы дополнительные лимиты на репрессии. Кроме того, заключению в лагеря или высылке могли подвергаться семьи репрессируемых.
Для решения судьбы арестованных в республиках, краях и областях создавались "тройки". Как правило, в их число входили нарком или начальник управления НКВД, секретарь соответствующей партийной организации и прокурор республики, области или края. "Тройки" получили чрезвычайные права: бесконтрольно выносили приговоры и отдавали приказы о приведении их в исполнение, включая расстрел.
31 июля этот приказ НКВД был утвержден Политбюро.
Уже с конца августа в ЦК начали обращаться местные руководители с просьбой увеличить лимиты на репрессии. С 28 августа по 15 декабря Политбюро санкционировало по разным регионам увеличение лимитов по первой категории почти на 22,5 и по второй на 16,8 тыс. человек.
Помимо этой общей операции по ликвидации "антисоветских элементов", были организованы несколько специальных акций. 20 июля 1937 г. Политбюро поручило НКВД арестовать всех немцев, работавших на оборонных заводах и часть их выслать за границу. 9 августа Политбюро утвердило приказ Наркомвнудела СССР "О ликвидации польских диверсионно-шпионских групп и организаций ПОВ (Польской организации войсковой)". С августа по декабрь 1937 г. в ходе проведения этой операции было репрессировано более 18 тыс. человек. 19 сентября Политбюро одобрило приказ НКВД "О мероприятиях в связи с террористической, диверсионной и шпионской деятельностью японской агентуры из так называемых харбинцев" (бывших работников Китайско-Восточной железной дороги, вернувшихся в СССР после продажи КВЖД в 1935 г.).
Во второй половине 1937 г. была проведена также массовая высылка из пограничных районов "неблагонадежного элемента". Самой крупной была депортация из Дальневосточного края всего корейского населения в Казахстан и Узбекистан. По официальным данным, которые Н.И.Ежов сообщил В.М.Молотову, к концу октября 1937 г. операция по выселению корейцев была закончена — всего было выселено более 170 тыс. человек.
Несмотря на первоначальные планы, операция по "репрессированию антисоветских элементов" не завершилась в четыре месяца. 31 января 1938 г. Политбюро приняло предложение НКВД СССР "об утверждении дополнительного количества, подлежащих репрессии бывших кулаков, уголовников и активного антисоветского элемента". К 15 марта (по Дальнему Востоку к 1 апреля) предписывалось репрессировать дополнительно в рамках операции 57200 человек, из них 48 тыс. расстрелять. Соответственно, продлевались сроки полномочий "троек", которым предстояла эта работа. В этот же день, 31 января, Политбюро разрешило НКВД продлить до 15 апреля операцию по разгрому так называемых "контрреволюционных национальных контингентов" — поляков, латышей, немцев, эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев, румын. Более того, Политбюро поручило НКВД "провести до 15 апреля аналогичную операцию и погромить кадры болгар и македонцев, как иностранных подданных, так и граждан СССР".
После утверждения новых "контрольных цифр" на репрессии повторилась ситуация предыдущего года: местные руководители начали просить об увеличении лимитов и продлении сроков операции. С 1 февраля по 29 августа 1938 г. Политбюро утвердило дополнительно к январским лимитам разнарядки на репрессирование еще почти 90 тыс. человек (точно определить, какое количество из них подлежало расстрелу, невозможно, так как во многих случаях Политбюро утверждало общую цифру по первой и второй категории). А это означало, что фактически было одобрено нарушение апрельского срока завершения операции.
Если деятельность "троек" и проведение операций против "национальных контрреволюционных контингентов" регулировались Политбюро при помощи установления лимитов на репрессии и утверждения приказов НКВД, то приговоры в отношении значительной части осужденных Военной коллегией Верховного суда СССР, военными трибуналами, Особым совещанием НКВД предопределялись комиссией Политбюро по судебным делам и также утверждались Политбюро. Комиссия по судебным делам, созданная еще в конце 20-х годов, в 1937-1938 гг. действовала особенно активно — в среднем раз в месяц она представляла на утверждение Политбюро свои протоколы. Тексты этих протоколов пока недоступны. Но, возможно, речь идет о тех 383 списках "на многие тысячи партийных, советских, комсомольских, военных и хозяйственных работников", которые, как говорил Н.С.Хрущев на XX съезде партии, Ежов направлял на санкцию Сталину. Ежов был введен в состав комиссии Политбюро по судебным делам 23 января 1937 г. и, видимо, в период репрессий играл в ней ведущую роль.
Важной составной частью механизма массовых репрессий было проведение многочисленных судебных процессов как в столице, так и на местах. В отличие от закрытых судов и абсолютно тайных заседаний "троек" открытые процессы выполняли важную пропагандистскую роль. Поэтому санкции на проведение основных процессов давало непосредственно Политбюро. Оно же, как правило, заранее определяло приговор, чаще всего расстрел.
Регулярными были поездки членов Политбюро на места с целью проведения чисток в республиканских и областных партийных организациях. Известны "командировки" Л.М.Кагановича в Челябинскую, Ярославскую, Ивановскую области, Донбасс, А.А.Жданова — в Башкирию, Татарию и Оренбургскую область, А.А.Андреева — в Узбекистан, Таджикистан, в ряд областей и краев Поволжья и Северного Кавказа, А.И.Микояна — в Армению и т.д.
По поводу общей численности жертв "большого террора" в литературе до сих пор идет дискуссия, в подробности которой нет смысла вдаваться в данной работе. Очевидно, что речь в любом случае идет о нескольких миллионах человек. Официальные, строго засекреченные подсчеты по репрессиям 1937-1938 гг. были сделаны еще в 1950-е годы и с тех пор не пересматривались. По данным, которые приводил на июньском пленуме 1957 г. Н.С.Хрущев, за 1937-1938 гг. было арестовано свыше полутора миллионов человек и из них 680692 человека расстреляно. Но даже эти ужасные цифры вряд ли являются полными. В число арестованных явно не включены, например, сотни тысяч депортированных и ссыльных. Непонятно, в какую категорию попадали (и попадали ли вообще) арестованные, погибавшие под пытками во время "следствия" и т.д.
Итак, даже короткое перечисление далеко не всех акций, составлявших то, что известно как "большой террор", дает основания для вывода о сугубой централизации массовых репрессий. Это не означает, конечно, что в репрессивных операциях 1937-1938 гг., как и во всех других государственно-террористических акциях, не присутствовала известная доля стихийности и местной "инициативы". На официальном языке эта стихийность называлась "перегибами" или "нарушениями социалистической законности". К "перегибам" 1937-1938 гг. можно отнести, например, "слишком большое" количество убитых на допросах или превышение местными органами лимитов на аресты и расстрелы, установленные Москвой, и т.д. (Например, по неполным данным, тройка НКВД Туркмении осудила с августа 1937 по сентябрь 1938 г. 13259 человек, хотя имела лимиты лишь на 6277 человек.) Однако подобная "стихийность" и "инициатива" местных властей была запланирована, вытекала из сути приказов центра, из назначения на первые роли в НКВД жестоких исполнителей и пресечения малейших попыток противодействия террору.
Столь же централизованным и рассчитанным было завершение террористических акций. Рассмотрение дел на "тройках" было запрещено директивой СНК и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1938 г. Проведение "массовых операций по арестам и выселению" было запрещено постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. 24 ноября от должности наркома внутренних дел был освобожден Ежов. "Большая чистка" закончилась так же, как и началась, по приказу из Москвы.
Поскольку массовые репрессии в 1937-1938 гг. проводились как государственная, "плановая" акция, а не были результатом стихийного стечения различных обстоятельств, закономерен вопрос о причинах их организации. Официальная сталинская пропаганда давала по этому поводу однозначное объяснение: жертвами предвоенных чисток были действительные враги. А все честные люди, ставшие жертвами тех же врагов, проникших в органы НКВД, были быстро реабилитированы благодаря бдительности руководства партии. Приверженцы подобных взглядов существуют и сегодня.
Справедливо отвергая апологию террора, многие антисталинисты нередко впадают в другую крайность. Не желая ничего объяснять, они рассматривают любые попытки понять причины репрессий как стремление оправдать их. Но поскольку известные факты террора приходится как-то истолковывать, постольку все сводится к размышлениям о психической неполноценности Сталина, палаческой натуре вождя и его соратников, к общим замечаниям о тоталитарной природе режима и т.п.
Личные качества советских лидеров, несомненно, являлись существенным фактором, предопределявшим многие события 30-50-х годов. Это, однако, не означает, что в их действиях не было логики (преступной, но логики). Реконструкция этой логики и расчетов организаторов террора — необходимое условие исследования принципов функционирования политической системы, сложившейся ко второй половине 30-х гг. Поскольку в массовых репрессиях 1937-1938 гг. в наиболее открытом и откровенном виде проявились те черты политического режима, которые позволяют отделять сталинский период от других этапов советской истории.
Факторы, предопределившие "большой террор", условно можно разделить на две группы. Первая — это общие причины, по которым террор и насилие в более мягких формах были главным оружием государства на протяжении всего советского периода, и особенно в 30-50-е годы. По этому вопросу в литературе существует большое количество соображений, развивающих теорию "перманентной чистки", согласно которой постоянные репрессии были необходимым условием жизнеспособности советского режима, как и всякого другого режима подобного типа. Исследователи отмечают, что репрессии, "подсистема страха" выполняли многочисленные функции. Одна из главных — удержание в повиновении общества, подавление инакомыслия и оппозиционности, укрепление единоличной власти вождя. Кампании против вредителей и "переродившихся" чиновников были также достаточно эффективным методом манипулирования общественным сознанием по принципу: все хорошее — от партии и вождя; все плохое — от врагов и "разложившихся" местных руководителей. Репрессии и насилие можно рассматривать как необходимое условие функционирования советской экономики, основу которой составляло прямое принуждение к труду, дополнявшееся на отдельных этапах широкомасштабной эксплуатацией заключенных. Перечень подобных наблюдений можно продолжать. Каждая из террористических акций, включая массовые репрессии 1937-1938 гг., в той или иной мере выполняла эти общие функции.
Однако, выяснение общих причин существования террора как основополагающего элемента диктаторского режима не исключает необходимости конкретизации этих причин применительно к отдельным периодам советской истории. Ведь на разных этапах государственный террор и насилие применялись в разной степени и в различных формах, будучи не только общим методом укрепления режима, но и реакцией руководства страны на некие конкретные (реальные или мнимые) проблемы.
О таких непосредственных причинах отдельных репрессивных акций советского периода можно судить как по способам их организации и результатам, так и на основании соответствующих заявлений руководителей страны. Если говорить об "операциях" 1937-1938 гг., то их основной целью, как свидетельствуют известные факты, мыслилось уничтожение в преддверии войны потенциальной "пятой колонны" и соответствующее повышение мобилизационной готовности общества и партийно-государственного аппарата. Обрушившись первоначально в основном на бывших активных оппозиционеров, репрессии быстро захватили все слои общества. "Обоснование" этого курса особенно полно было сформулировано на февральско-мартовском пленуме 1937 г. Причем не только в виде известной "теоретической" формулы Сталина об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, но в многочисленных конкретных предложениях членов ЦК.
Секретарь Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И.Эйхе, например, заявил на пленуме, что среди большого количества сосланных в свое время кулаков в крае осталась "немалая группа заядлых врагов, которые будут пытаться всеми мерами продолжать борьбу...". Секретарь Свердловского обкома И.Д.Кабаков жаловался, что период бурного промышленного строительства в годы первой пятилетки, совпавший с массовым раскулачиванием, "открыл большие щели для притока" на предприятия в города "чуждых элементов". Об опасности, которую якобы представляют бывшие кулаки, вернувшиеся из заключения и ссылки, говорил также секретарь партийной организации Туркмении Попок: "Большое количество кулаков прошло через Соловки и другие лагеря и сейчас в качестве "честных" тружеников возвращаются обратно, требуют наделения их землей, предъявляют всякие требования, идут в колхоз и требуют приема в колхозы. У нас был такой случай, когда сын крупного хана, Хан-Кули, вернулся обратно, разбил кибитку на бывших феодальных землях своего отца, потребовал от аульного совета вернуть ему участок земли "согласно новой Конституции". Как показали последующие события, бывшие "кулаки" были одной из главных целей карательных акций 1937-1938 гг.
При обсуждении на пленуме вопросов подготовки к выборам на основе новой Конституции особенно много говорилось об угрозе, которую якобы представляют для советской власти миллионы верующих, и особенно активисты и руководители многочисленных церковных организаций. Перепись населения, проведенная в 1937 г., показала, что среди населения в возрасте 16 лет и старше верующих насчитывалось 57% (56 млн. человек), и это при том, что многие верующие, опасаясь преследований, скрывали свою приверженность религии. Как известно, перепись была объявлена "вредительской" и результаты ее стали доступны лишь пятьдесят лет спустя. Однако руководство страны, несомненно, знало о результатах опроса.
Многочисленные "адреса" для проведения чистки предлагали и другие ораторы. Секретарь ЦК компартии Грузии Л.П.Берия сообщил, что только за последний год в республику вернулось из ссылки около полутора тысяч "бывших членов антисоветских партий — меньшевиков, дашнаков, мусаватистов". "За исключением отдельных единиц, большинство из возвращающихся остается врагами советской власти, является лицами, которые организуют контрреволюционную вредительскую, шпионскую, диверсионную работу... Мы знаем, что с ними нужно поступить как с врагами", — заявил Берия. Секретарь Восточно-Сибирского крайкома партии Разумов утверждал, что с троцкистами на почве совместного шпионажа в пользу Японии смыкаются "бурятские буржуазные националисты". Секретарь Московской партийной организации Н.С.Хрущев жаловался, что в столицу, желая затеряться в большом городе, "пролезают" со всей страны множество людей, "у которых что-нибудь да есть", "пролезают не только люди меченные, но и те, до которых еще не добрались... Сюда также устремляются исключенные из партии люди" и т.д.
Некоторое время спустя все эти предложения, и даже с избытком, были воплощены в жизнь.
Как показали последующие события, жертвы репрессий прежде всего определялись по анкетным данным. Основанием для расстрела или отправки в лагерь могло быть неподходящее дореволюционное прошлое, участие в гражданской войне на стороне противников большевиков, членство в других политических партиях или оппозиционных группах в самой ВКП (б), факт исключения из партии (по любым, не обязательно политическим мотивам) или "раскулачивания", судимость, "подозрительная" национальность (немцы, поляки, корейцы и т.д.), наконец, родственные, дружеские или просто деловые связи с представителями перечисленных категорий и многое другое. Соответствующий учет всех этих контингентов населения годами велся в НКВД и партийных органах. После команды из Москвы на местах составлялись списки, и по ним производились аресты и расстрелы.
Все это позволяют рассматривать чистку конца 30-х годов как завершающий аккорд (и в какой-то мере, следствие) репрессивной политики, проводившейся в предшествующие годы. Жестокое противостояние в ходе гражданской войны, репрессии периода нэпа, многочисленные акции конца 20-х- 30-х годов — чистки партии и аресты оппозиционеров, коллективизация и "раскулачивание", борьба с "саботажниками хлебозаготовок" и "расхитителями социалистической собственности", аресты и высылки после убийства Кирова и т.д. — затронули многие миллионы людей. Фактически, в число "обиженных", а значит находившихся под подозрением, попала (вместе с семьями) значительная часть населения страны. С некоторыми из ранее репрессированных власти, как уже говорилось, пытались "помириться". Однако основным методом "решения проблемы" был избран террор. Такова природа любого насилия. Однажды прибегнув к нему, уже трудно остановиться. Произвол порождает противодействие и ненависть, и, чтобы удержаться у власти, диктатура прибегает к более жестокому террору. Беспощадность сталинского руководства подпитывал и своеобразный синдром "неполноценности власти", власти "в первом поколении". Лишь пятнадцать лет прошло со времени завершения гражданской войны, и вожди партии еще хорошо помнили, как нелегко далась победа, сколь часто стоял вопрос о судьбе нового режима. Многие из них пережили страшные минуты неопределенности и страха за собственную жизнь, и растущая угроза новой войны, а значит, новых испытаний для власти, возвращала к этим воспоминаниям.
Настроения боязни утраты власти достаточно откровенно высказывал в своих позднейших рассуждениях о событиях 30-х годов один из ближайших соратников Сталина и один из главных организаторов террора — В.М.Молотов. "1937 год был необходим, — говорил Молотов писателю Ф.Чуеву. — Если учесть, что мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны. Ведь даже среди большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. Но, если начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся. Я не считаю, что реабилитация многих военных, репрессированных в 37-м, была правильной... Вряд ли эти люди были шпионами, но с разведками связаны были, а самое главное, что в решающий момент на них надежды не было". "Враг" для Молотова — понятие растяжимое: "... и пострадали не только ярые какие-то правые или, не говоря уже, троцкисты, пострадали и многие колебавшиеся, которые нетвердо вели линию и в которых не было уверенности, что “в трудную минуту они не выдадут, не пойдут, так сказать, на попятную". По мнению Молотова, массовые репрессии были "профилактической чисткой" без определенных границ. Главное в ней — не упустить врагов, количество безвинных жертв — вопрос второстепенный: "Сталин, по-моему, вел очень правильную линию: пускай лишняя голова слетит, но не будет колебаний во время войны и после войны".
Нетрудно предположить, что Молотов воспроизводил логику рассуждений Сталина, воспринятую также теми членами Политбюро, которые сохранили свою жизнь и позиции. Во всяком случае, рассуждения Молотова близки, например, заявлениям Сталина на февральско-мартовском пленуме. "Для того чтобы напакостить и навредить, — говорил Сталин, — для этого вовсе не требуется большое количество людей. Чтобы построить Днепрострой, надо пустить в ход десятки тысяч рабочих. А чтобы его взорвать, для этого требуется, может быть, несколько десятков человек, не больше. Чтобы выиграть сражение во время войны, для этого может потребоваться несколько корпусов красноармейцев. А для того чтобы провалить этот выигрыш на фронте, для этого достаточно несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии или даже в штабе дивизии, могущих выкрасть оперативный план и передать его противнику. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек. Таких примеров можно было бы привести десятки и сотни". Причем, наставлял Сталин, "вредители обычно приурочивают свою вредительскую работу не к периоду мирного времени, а к периоду кануна войны или самой войны".
Говоря о ликвидации "пятой колонны" как основной цели террора 1937-1938 гг., следует, конечно, иметь в виду, что массовые репрессии одновременно (можно сказать, попутно) были средством решения многих других важнейших социальных и политических задач.
Леонид Млечин, историк
Коммунистическую партию Франции назвали после войны "партией расстрелянных". Но особенно подходит это название к ленинской партии большевиков.
Михаил Восленский, историк
Для порівняння, в СРСР загалом у добу Великого терору засуджено до страти 682 тисяч громадян, а позбавлено волі 3,8 млн осіб. В Україні у зазначений час засуджено 197 617 осіб, з них розстріляно 122 237 людей. Виходить, що кожен п'ятий розстріляний в країні Рад в 1937-1938 роках був вихідцем з України.
Олег Бажан, історик
Славно поработал НКВД за это время!
Анастас Микоян, член политбюро ЦК ВКП(б),
из выступления на торжественном собрании в честь 20-летия ЧК-ОГПУ-НКВД 20 декабря 1937 года
20 января 1937 года нарком МВД СССР Н. Ежов подписал секретный приказ, предписывающий не указывать мест захоронения в актах о расстрелах.
Журнал «Совершенно секретно», № 1, 2013
Сталин бил по своим, по ветеранам партии и революции! За это мы его и осуждаем!
Никита Хрущев, из доклада XX съезду КПСС
Страх перед надвигающейся войной был главным двигателем репрессий. Они считали, что надо убрать всех, кто вызывает сомнения.
Вячеслав Никонов,
российский политолог,
внук Вячеслава Молотова
Надо говорить все-таки, если говорить корректно, Сталин боролся с воображаемой им «пятой колонной». У советской власти были недруги, неприятели, но не существовало этой «пятой колонны» в таких масштабах, которые бы объясняли… Это воображаемые угрозы.
Олег Хлевнюк, историк
К середине 1938 года стало ясно, что все политические соперники Сталина, все их ставленники, те, кто мимо проходил, и просто подозрительные товарищи уже расстреляны. Ежов становился не нужен. В августе 1938 года заместителем Ежова был назначен другой сталинский ставленник — Лаврентий Берия.
Евгений Антонюк, историк
Как закончился Третий Московский процесс
https://tverdyi-znak.livejournal.com/3424411.html
(Сокращено)
Это был последний в серии из трех открытых политических процессов, проведенных в Москве в 1936–1938 годах и призванных наглядно подтвердить факт существования в стране многочисленных «врагов народа», в борьбе с которыми допустимы и оправданы любые средства.
Дело слушалось в Военной коллегии Верховного Суда СССР со 2 по 13 марта 1938 года при председательствующем В. В. Ульрихе и государственном обвинителе А. Я. Вышинском.
Основными обвиняемыми были видные деятели партии, ещё с конца 1920-х обвинённые в правом уклоне и составлявшие (по крайней мере тогда) ту или иную оппозицию курсу Сталина: это А.И. Рыков, Н.И. Бухарин, а также бывшие троцкисты Н.Н. Крестинский, Х.Г. Раковский. Важнейшим обвиняемым был также бывший нарком внутренних дел Г.Г. Ягода. Можно выделить ряд подсудимых, которым преимущественно вменялось убийство Максима Горького и его сына: Ягода, секретарь Горького (и сотрудник ОГПУ) П.П. Крючков, врачи Л.Г. Левин, И.Н. Казаков и Д.Д. Плетнёв. Кроме названных лиц, суду были преданы А.П. Розенгольц, В.И. Иванов, М.А. Чернов, Г.Ф. Гринько, И.А. Зеленский, С.А. Бессонов, А. Икрамов, Ф.Г. Ходжаев, В.Ф. Шарангович, П.Т. Зубарев, П.П. Буланов и В.А. Максимов-Диковский. Всего 21 обвиняемый.
Из 21 обвиняемого 9 являлись членами и кандидатами в члены ЦК ВКП(б). Наиболее видными деятелями среди них были Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и Г.Г. Ягода. На другом полюсе находились гораздо менее известные широкой публике лица — лечившие кремлевскую верхушку врачи Д.Д. Плетнев, А Г. Левин и И.Н. Казаков, бывший секретарь умершего в 1935 г. члена Политбюро ЦК ВКП(б) Куйбышева В.А. Максимов-Диковский, бывший секретарь Горького П.П. Крючков и бывший секретарь НКВД П.П. Буланов.
Все эти стоящие на разных ступенях иерархической лестницы люди, многие из которых не были даже знакомы, оказались по воле Ежова и Сталина объединены теперь в одну заговорщицкую организацию, в активе которой, по версии следствия, имелись такие серьезные преступления, как соучастие в убийстве Кирова, умерщвление скончавшихся в 1934–1936 годах Менжинского, Куйбышева, Горького и его сына Максима Пешкова, покушение на жизнь Ежова, шпионаж в пользу Германии, Японии, Польши и Англии, саботаж и вредительство в народном хозяйстве, организация кулацких восстаний, подготовка вооруженного выступления в тылу Красной Армии в случае войны и т. д. Кроме того, Бухарин обвинялся в организации заговора против советского правительства в 1918 году, чтобы «сорвать Брестский мир, свергнуть Советское правительство, арестовать и убить В. И. Ленина, И. В. Сталина и Я. М. Свердлова и сформировать новое правительство из бухаринцев… троцкистов и „левых“ эсеров». Ряду подсудимых (Зелинский, Иванов, Зубарев) вменялось в вину сотрудничество с царской охранкой.
Хотя блок и именовался правотроцкистским, однако среди представших перед судом видных партийных и государственных деятелей многие ни к троцкистской, ни к правой оппозиции никогда не примыкали. Поэтому некоторых из них следствию пришлось изобразить как участников законспирированной организации правых, других — как членов «буржуазно-националистических» и «национал-фашистских» организаций Украины, Белоруссии и Узбекистана, действовавших по указке Бухарина и Рыкова.
Защитников имели только трое: Левина защищал член Московской коллегии защитников И. Д. Брауде, Плетнёва и Казакова — член Московской коллегии защитников Н. В. Коммодов; остальные подсудимые при окончании предварительного следствия, а затем и на суде отказались от защитников, заявив, что защищаться будут сами.
На суде заслушивались показания свидетелей, рассказывавших о причастности Бухарина в 1918 году к группе «левых коммунистов», и показания экспертов, сводившиеся к тому, что обвиняемые врачи действительно имели возможность ускорить смерть Менжинского (экспертиза опиралась при этом на слова тех же врачей). Основную массу доказательств составили материалы предыдущих процессов и показания самих обвиняемых.
Процесс «Антисоветского правотроцкистского блока», с точки зрения его подготовки и проведения, следует признать как наименее удавшийся. Уже в первый день работы суда один из обвиняемых, бывший первый заместитель наркома иностранных дел СССР Н.Н. Крестинский, отказался от показаний, данных им на предварительном следствии. Заявив, что никогда не был участником «правотроцкистского блока», не знал о его существовании и не совершал ни одного из тех преступлений, которые ему инкриминируются, Крестинский упорно стоял на своем, отбивая все попытки Вышинского доказать обратное. Только на следующий день, после ночи, проведенной наедине со следователями, Крестинский согласился признать себя виновным по всем пунктам, объяснив свое поведение накануне «минутным острым чувством ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта».
В связи с выступлением Крестинского помощник прокурора СССР Г. М. Леплевский заявил в своём кругу: "Нельзя раздражать Раковского и других, а то они могут начать говорить совсем другое. Не нужно быть очень умным, чтобы видеть, что этот процесс держится на волоске, все видят, что о конкретном вредительстве никто, кроме Ходжаева, не говорит. Крестинский чуть было не поднял занавес на признания. И не Вышинского заслуга, что Крестинский затем вернулся к версии предварительного следствия, а тех, кто беседовал с ним между заседаниями суда".
Сталин, прочтя спецсообщение об этом высказывании, подчеркнул фразу о беседовавших с Крестинским и написал на первом листе: «Молотову. Ежову. Предлагаю арестовать Леплевского (б. пом. прокурора)». Леплевский был немедленно взят под стражу.
Из выступлений других обвиняемых следует назвать показания Бухарина, отведшего часть обвинений, врачей, утверждавших, что они совершили преступления из страха перед Ягодой, грозившего расправиться с их семьями, и самого Ягоды, фактически ссылавшегося на свою любовь к жене М. А. Пешкова Надежде («Тимоше»). По просьбе Ягоды рассмотрение этого вопроса было перенесено в закрытое заседание.
Одним из преступлений, приписываемых «правотроцкистскому блоку», была организация покушения на жизнь Ежова. По версии следствия, которую озвучил один из обвиняемых, бывший секретарь НКВД П. П. Буланов, после назначения Ежова наркомом внутренних дел Ягода, опасаясь разоблачения заговорщиков-контрреволюционеров, действовавших в системе НКВД, поручил Буланову, тоже участнику заговора, организовать отравление нового наркома путем опрыскивания его рабочего кабинета и смежных комнат растворенной в кислоте ртутью. Такой раствор был якобы изготовлен, и порученец Ягоды, И. М. Саволайнен, опрыскал им в кабинете Ежова дорожки, ковры, портьеры и т.д. Поскольку Буланов с Саволайненом продолжали работать в НКВД также и после ухода Ягоды, они эту процедуру будто бы повторили еще пять или шесть раз в течение октября-декабря 1936 г. ..
Главной проблемой стал для Вышинского Н.И. Бухарин. Соглашаясь в принципе со своей ответственностью за деятельность организации «заговорщиков», Бухарин при попытках получить от него показания, подтверждающие его конкретную контрреволюционную работу, не проявлял никакого желания идти навстречу государственному обвинителю, не соглашался с его выводами, оспаривал обвинения в свой адрес со стороны других подсудимых и т.д. Верность избранной тактике Бухарин сохранил до конца процесса и в своем последнем слове не только отверг приписываемые ему преступления, но поставил под сомнение сам факт существования «правотроцкистского блока», одним из руководителей которого он якобы являлся.
При подготовке к изданию в том же 1938 году стенографического отчета о процессе последнее слово Бухарина подверглось существенной правке, сократившись в результате более чем на четверть, однако и то, что осталось, не могло скрыть явную сфабрикованность обвинений, предъявленных на суде Бухарину и его «сообщникам».
Несмотря на это, Военная коллегия Верховного Суда под председательством В. В. Ульриха признала эти обвинения вполне доказанными и в соответствии с полученными инструкциями приговорила 13 марта 1938 года всех подсудимых, кроме троих, к высшей мере наказания — расстрелу. Суд приговорил Плетнёва, «как не принимавшего непосредственно активного участия в умерщвлении т.т. В.В. Куйбышева и А.М. Горького, хотя и содействовавшего этому преступлению», к 25 годам заключения, а Раковского и Бессонова, «как не принимавших прямого участия в организации террористических и диверсионно-вредительских действий», к 20 и 15 годам заключения соответственно. Для всех троих, однако, это оказалось лишь отсрочкой казни: Плетнёв, Раковский и Бессонов были расстреляны 11 сентября 1941 года в Медведевском лесу под Орлом вместе с 154 другими политзаключёнными при приближении гитлеровских войск.
Остальные осуждённые были расстреляны и похоронены 15 марта на спецобъекте «Коммунарка» Московской области (сейчас около МКАД).
Оперативный приказ НКВД СССР
№ 00486 «О репрессировании жен и размещении детей осужденных "изменников Родины"»
15.08.1937
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009101
С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины, членов правотроцкистских шпионско-диверсионных организаций, осужденных Военной коллегией и военными трибуналами по первой и второй категориям, начиная с 1 августа 1936 года.
При проведении этой операции руководствуйтесь следующим:
ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ
1) В отношении каждой намеченной к репрессированию семьи производится тщательная ее проверка, собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы.
На основании собранных материалов составляются:
а) подробная справка на семью с указанием: фамилии, имени и отчества осужденного главы семьи, за какие преступления, когда, кем и какому наказанию подвергнут; именной список состава семьи (включая и всех лиц, состоявших на иждивении осужденного и вместе с ним проживавших), подробных установочных данных на каждого члена семьи, компрометирующих материалов на жену осужденного; характеристики в отношении степени социальной опасности детей старше 15-летнего возраста; данных о наличии в семье престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии детей, по своему физическому состоянию требующих ухода;
б) отдельная краткая справка на социально опасных и способных к антисоветским действиям детей старше 15-летнего возраста;
в) именные списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного возраста.
2) Справки рассматриваются соответственно наркомами внутренних дел республик и начальниками управлений НКВД краев и областей.
Последние:
а) дают санкцию на арест и обыск жен изменников Родины;
б) определяют мероприятия в отношении родителей и других родственников, состоявших на иждивении осужденного и совместно с ним проживающих.
ПРОИЗВОДСТВО АРЕСТОВ И ОБЫСКОВ
3) Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест оформляется ордером.
4) Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом браке с осужденным в момент его ареста.
Аресту подлежат также жены хотя и состоявшие с осужденным, к моменту его ареста, в разводе, но:
а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного;
б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не сообщившие об этом соответствующим органам власти.
5) Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тяжело или заразно больные; имеющие преклонный возраст.
В отношении таких лиц временно ограничиваться отобранием подписки о невыезде с установлением тщательного наблюдения за семьей;
б) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о них органам власти сведения, послужившие основанием к разработке и аресту мужей.
6) Одновременно с арестом производится тщательный обыск. При обыске изымаются: оружие, патроны, взрывчатые и химические вещества, военное снаряжение, множительные приборы (копирографы, стеклографы, пишущие машинки и т.п.), контрреволюционная литература, переписка, иностранная валюта, драгоценные металлы в слитках, монетах и изделиях, личные документы и денежные документы.
7) все имущество, лично принадлежащее арестованным (за исключением необходимых белья, верхнего и нижнего платья, обуви и постельных принадлежностей, которые арестованные берут с собой), конфискуется.
Квартиры арестованных опечатываются.
В случаях, когда совместно с арестуемыми проживают их совершеннолетние дети, родители и другие родственники, то им помимо их личных вещей оставляется в пользование необходимые: жилая площадь, мебель и домашняя утварь арестуемых.
8) После производства обыска арестованные жены осужденных конвоируются в тюрьму. Одновременно порядком, указанным ниже, вывозятся и дети.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛ
9) На каждую арестованную и на каждого социально опасного ребенка старше 15-летнего возраста заводится следственное дело, в которое помимо установленных документов помещаются справки (см. пункты «а» и «б» ст. 1) и краткое обвинительное заключение.
10) Следственные дела направляются на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР.
Начальникам управлений НКВД по Дальне-Восточному и Красноярскому краям и Восточно-Сибирской области следственных дел на арестованных Особому совещанию не высылать. Вместо этого сообщать по телеграфу общие справки на семьи осужденных (пункт «а» ст. 1), которые и будут рассматриваться Особым совещанием. Последнее свои решения по каждой семье с одновременным указанием мест заключения (лагеря) сообщает начальникам перечисленных УНКВД также по телеграфу.
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ И МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
11) Особое совещание рассматривает дела на жен осужденных изменников Родины и тех их детей старше 15-летнего возраста, которые являются социально опасными и способными к совершению антисоветских действий.
12) Жены осужденных изменников Родины подлежат заключению в лагеря на сроки, в зависимости от степени социальной опасности, не менее как 5–8 лет.
13) Социально опасные дети осужденных, в зависимости от их возраста, степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД или водворению в детские дома особого режима Наркомпросов республик.
14) Приговоры Особого совещания сообщаются для приведения их в исполнение наркомам республиканских НКВД и начальникам Управлений краев и областей по телеграфу.
15) Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.
ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ
16) Осужденных Особым совещанием жен изменников Родины направляют для отбытия наказания в специальное отделение Темниковского исправительно-трудового лагеря, по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД СССР.
Направление в лагеря производить соответствующим порядком.
17) Осужденные жены изменников Родины, не подвергнутые аресту в силу болезни и наличия на руках больных детей, по выздоровлению арестовываются и направляются в лагерь.
Жены изменников Родины, имеющие грудных детей, после вынесения приговора немедленно подвергаются аресту и без завоза в тюрьму направляются непосредственно в лагерь.
Так же поступать и с осужденными женами, имеющими преклонный возраст.
18) Осужденные социально опасные дети направляются в лагеря, исправительно-трудовые колонии НКВД или в дома особого режима Наркомпросов республик по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД для первой и второй группы и АХУ НКВД СССР — для третьей группы.
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
19) Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:
а) детей возрасте от 1–1,5 лет и до трех полных — в детских домах и яслях Наркомздравов республик в пунктах жительства осужденных;
б) детей возрасте от 3 полных лет и до 15 — в детских домах Наркомпросов других республик, краев и областей (согласно установленной дислокации) и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных городов.
20) В отношении детей старше 15 лет вопрос решать индивидуально. В зависимости от возраста, возможностей самостоятельного существования собственным трудом или возможностей проживания на иждивении родственников такие дети могут быть:
а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соответствии с п. «б» ст. 19;
б) направлены в другие республики, края и области (в пункты, за исключением перечисленных выше городов) для трудового устройства или определения на учебу.
21) Грудные дети направляются вместе с их осужденными матерями в лагеря, откуда по достижении возраста 1–1,5 лет передаются в детские дома и ясли Наркомздравов республик.
22) Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государственное обеспечение.
23) В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение, — этому не препятствовать.
ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
24) В каждом городе, в котором производится операция, специально оборудуются:
а) приемно-распределительные пункты, в которые будут доставляться дети тотчас же после ареста их матерей и откуда дети будут направляться затем по детским домам;
б) специально организуются и оборудуются помещения, в которых будут содержаться до решения Особого совещания НКВД социально опасные дети.
Для указанных выше детей используются, там, где они имеются, детские приемники отделов трудовых колоний НКВД.
25) Начальники органов НКВД пунктов, где расположены детские дома Наркомпросов, предназначенные для приема детей осужденных, совместно с заведывающими или представителями ОБЛОНО производят проверку персонала домов и лиц, политически неустойчивых, антисоветски настроенных и разложившихся — увольняют. Взамен уволенных персонал домов доукомплектовывается проверенным, политически надежным составом, могущим вести учебно-воспитательную работу с прибывающими к ним детьми.
26) Начальники органов НКВД определяют, в каких детских домах и яслях Наркомздравов можно разместить детей до 3-летнего возраста, и обеспечивают немедленный и безотказный прием этих детей.
27) Наркомы внутренних дел республик и начальники управлений НКВД краев и областей сообщают по телеграфу лично заместителю начальника АХУ НКВД СССР тов. Шнеерсону именные списки детей, матери которых подвергаются аресту. В списках должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечисляются по группам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один и тот же дом не попали дети, связанные между собой родством или знакомством.
28) Распределение детей по детским домам производит заместитель начальника АХУ НКВД СССР. Он телеграфом сообщает наркомам республиканских НКВД и начальникам управлений НКВД краев и областей, каких детей и в какой дом направить. Копию телеграммы посылают начальнику детского дома. Для последнего эта телеграмма должна являться основанием к приему детей.
29) При производстве ареста жен осужденных дети у них изымаются и вместе с их личными документами (свидетельства о рождении, ученические документы) в сопровождении специально наряженных в состав группы, производящей арест, сотрудника или сотрудницы НКВД отвозятся:
а) дети до 3-летнего возраста — в детские дома и ясли Наркомздравов;
б) дети от 3-х до 15-летнего возраста — в приемно-распределительные пункты;
в) социально опасные дети старше 15-летнего возраста — в специально предназначенные для них помещения.
ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ ДОМА
30) Детей на приемно-распределительном пункте принимает заведывающий пунктом или начальник детского приемника ОТК НКВД и специально выделенный оперработник (работница) УГБ.
Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а документы его запечатываются в отдельный конверт.
Затем дети группируются по местам назначения и в сопровождении специально подобранных работников отправляются группами по детским домам Наркомпросов, где сдаются вместе с их документами заведующему домом под личную его расписку.
31) Дети до 3-летнего возраста сдаются лично заведывающим детскими домами или яслями Наркомздравов под их личную расписку. Вместе с ребенком сдается и его свидетельство рождении.
УЧЕТ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
32) Дети осужденных, размещенные в детских домах и яслях Наркомпросов и Наркомздравов республик, учитываются АХУ НКВД СССР.
Дети старше 15-летнего возраста и осужденные социально опасные дети учитываются 8-м отделом ГУГБ НКВД СССР.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ ОСУЖДЕННЫХ
33) Наблюдение за политическими настроениями детей осужденных, за их учебой и воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов внутренних дел республик, начальников Управлений НКВД краев и областей.
ОТЧЕТНОСТЬ
34) О ходе операции доносить мне 3-дневными сводками по телеграфу. О всех эксцессах и чрезвычайных происшествиях — немедленно.
35) Операцию по репрессированию жен уже осужденных изменников Родины закончить к 25 октября с.г.
36) Впредь всех жен изобличенных изменников Родины, правотроцкистских шпионов арестовывать одновременно с мужьями, руководствуясь порядком, устанавливаемым настоящим приказом.
Нарком внутренних дел Н. ЕЖОВ
Приказ НКВД СССР
об изменении порядка репрессирования
жен изменников родины
№ 00689. 17.10.1938, гор. Москва
https://www.0462.ua/news/1199621
Во изменение приказа НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 года о порядке ареста жен изменников родины, участников правотроцкистских организаций, шпионов и диверсантов,
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. В дальнейшем репрессировать не всех жен арестованных или осужденных изменников родины, врагов народа, правотроцкистских шпионов, а только тех из них:
а) которые по имеющимся материалам были в курсе или содействовали контрреволюционной работе своих мужей;
б) в отношении которых органы НКВД располагают данными об их антисоветских настроениях и высказываниях и которые могут быть рассматриваемы как политически сомнительные и социально опасные элементы.
2. Принять необходимые меры к усилению агентурного освещения настроений, поведений, связей и пр. жен и других членов семьи врагов народа, для чего:
а) наметить и провести вербовки среди жен арестованных и осужденных, подбирая из них для этой цели имеющих более или менее широкое знакомство с женами других арестованных и подходящих для вербовки;
б) наметить и провести вербовки среди их окружения — родственников, знакомых, сослуживцев, соседей и проч. (по месту работы, по квартирам и т.д.).
Насаждаемая сеть должна в первую очередь охватить жен наиболее активных злостных врагов народа, изменников Родины, правотроцкистских шпионов.
3. Вопрос об аресте и репрессировании жен врагов решается в каждом отдельном случае начальником соответствующего органа НКВД, исходя из полученного агентурным путем материала, степени причастности их к контрреволюционной работе своих мужей, продолжительности совместного проживания и проч.
4. Пункт 36 оперативного приказа № 00486 об обязательности ареста жен врагов народа одновременно с мужьями — отменяется. Вопрос этот решается в соответствии с п. 3 настоящего приказа.
5. Порядок ареста и дальнейшего направления жен врагов народа, а также порядок размещения их детей, установленный приказом № 00486 от 15 августа 1937 года, — сохраняется.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный Комиссар государственной безопасности ЕЖОВ
Начальник ГУГБ НКВД СССР
комиссар государственной безопасности 1-го ранга БЕРИЯ
Следы кровавых репрессий под Черниговом
https://www.0462.ua/news/1199621
О захоронениях молчали больше 50 лет
О страшных событиях 1937–1938 годов нам подробно рассказала старший научный сотрудник Черниговского исторического музея имени В.Тарновского Светлана Сергеева.Во время репрессий того периода в Чернигове работала тройка. В ее состав входили начальник областного управления НКВД, первый секретарь Черниговского обкома Маркитан и областной прокурор Склярский.
Они судили арестованных черниговцев, рассматривали их дела, не видя перед собой человека, и часто приговаривали к высшей мере наказания. Людей расстреливали в здании областного управления НКВД (ныне городская санстанция) по современному адресу ул. Кирпоноса, 30, и в других местах вокруг Чернигова, а хоронили в Халявинском урочище.
О том, что под Черниговом есть место массового захоронения, было известно еще в довоенное время. Однако впервые заговорили о нем только в 1989 году. Тогда прокурор следственного управления областной прокуратуры Евгений Подгорный, члены общества «Мемориал», работники Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника и другие краеведы провели поиск этого захоронения.
Свидетели тех событий рассказали, что в 30-х годах неподалеку от скульптуры «Медведи» на трассе Чернигов — Гомель стоял небольшой домик дорожного мастера. В 1937 году эту территорию площадью около одного гектара окружили высоким забором. Говорили, что заходить за этот забор запрещалось, поэтому о том, что происходило внутри, никто не знал.
Территорию охраняли люди в военной форме. Время от времени туда заезжали крытые машины, прозванные в народе черными воронами. Во второй половине 1938 года этот дом странным образом исчез, захоронения, по всей видимости, прекратились, а место постепенно стало зарастать лесом.
Раскопки, проведенные в 1989 году, не дали больших результатов. Этому нашли несколько объяснений. Во-первых, часть трупов сжигалась, во-вторых, в грунте нашли остатки извести, которой засыпали тела для уничтожения костей.
Тем не менее Евгений Подгорный рассмотрел материалы дела и вынес решение «считать установленным, что захоронение останков незаконно репрессированных граждан осуществлялось в урочище Халявинское, в той его части, которая прилегает к дороге на 1051-м километре трассы Е-95».
В октябре 2004 года поиск точного места захоронений жертв репрессий возобновили по инициативе государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете министров.
Проведенные раскопки оказались более информативными. В 50 метрах от трассы Чернигов — Гомель обнаружили части человеческих скелетов. На черепах имелись отверстия, нехарактерные для их анатомического строения.
Также в ходе раскопок обнаружили предметы личного пользования — фрагменты очков, зубные щетки, фаянсовые чашки, обувь, разменную монету 1936 года и др.
Для экстренного исследования отобрали два черепа с отверстием диаметром 10 мм на на затылочной части и диаметром 1,6 мм на лобной. Также осмотрели три бедренные кости. Результаты этих исследований показали, что один из черепов принадлежал мужчине среднего возраста, примерно 52 лет.
– Ми можемо стверджувати, що розстрілювали там людей різного віку, у тому числі похилого, і що ці люди навряд чи були воїнами Другої світової війни. Як відомо, до Червоної армії у Другу світову війну люди такого віку не призивалися. Ймовірно, уже вбитих людей ховали з речами особистого вжитку, які знаходилися в речових мішках. Ці речі є невблаганними свідками злочинного сталінського режиму і знаходяться в Чернігівському історичному музеї, — говорит Светлана Николаевна.
Сергей Бутко, представитель Украинского института национальной памяти в Черниговской области:
— За даними протоколів трійки при управлінні НКВС, по області з серпня 1937 року до вересня 1938-го розглянули 8108 справ. Розстріляли 4367 осіб, а до тюрми відправили 3455. Проте це не всі жертви репресій в області на той час. Оскільки в камерах не вистачало місць, старих людей та калік просто вбивали без всякої звітності. Тому офіційна кількість репресованих неповна.Усі репресовані, навіть ті, кого потім відпустили, постраждали від фізичних тортур, які застосовували слідчі НКВС. Кат Чернігівщини того часу — Павло Іванович Філенко, комендант управління НКВС по Чернігівській області. Він організовував і особисто брав участь у розстрілах людей. До речі, 19 грудня 1937 року за цю «роботу» до Дня чекіста його нагородили орденом «Знак Пошани».
Іще один відомий кат — Олексій Федоров, котрий на посаді секретаря Лосинівського райкому на Чернігівщині зробив успішну кар’єру на пошуку «ворогів народу» та обстоюванні «чистоти генеральної лінії партії». Так і дослужився до керівництва Чернігівською областю.
У вересні 1938 року його обрали першим секретарем Чернігівського обкому. Із досліджених документів з’ясувалося, що Олексій Федоров безпосередньо причетний до вбивства 297 осіб та ув’язнення у сталінських таборах 147 осіб.
Серйозних пропозицій щодо створення нового памятника жертвам репресій особисто я не чув. Ініціаторам його створення слід звернутися до Чернігівської областної ради. Це як мінімум обласний проект, оскільки під Халявином поховані жертви зі всієї Чернігівської та навіть Сумської області.
Расследовать тему коммунистических убийств будем еще очень долго. Только в архивах СБУ, которые передаются Институту национальной памяти, — 90 километров архивов (канцелярские папки относятся друг к другу — так измеряется количество архивных документов).
Алина Сиренко, 2017 г.
Точне місце поховань жертв сталінських репресій на території України встановити вкрай важко. Як правило, слідів «власної роботи» працівники НКВС не залишали. Як справедливо зазначає дослідниця Київського некрополя Л. М. Проценко, «всупереч дореволюційній реєстрації смерті, коли священик сумлінно заносив до метричних книг і причину смерті (страта через розстріл чи повішення), і місце, де зарито тлін, органи НКВС... не фіксували, де саме поховані їхні жертви».
...Доля співробітників цвинтарів, на території яких відбувалися таємні поховання, у більшості випадків була трагічною. В 1937–1939 р. співробітники НКВС, приховуючи сліди своїх злочинів, розстрілювали персонал кладовищ, який брав участь або володів інформацією про таємні поховання страчених громадян.
Бажан О.Г., 2014 р.
Сталин хотел большой и долгой войны
Cпецвыпуск «Правда ГУЛАГа» от 16.06.2010 №07 (28)
https://www.novayagazeta.ru/articles/2010/06/16/2915-stalin-hotel-bolshoy-i-dolgoy-voyny
(Сокращено)
22 июня 1937 года в дневнике одиннадцатилетнего Юры Трифонова (будущего знаменитого писателя) появляется запись — об аресте отца ночью:
«Сегодня меня будила мама и сказала:
— Юра! Вставай, я должна тебе что-то сказать.
Я протер глаза.
Таня привстала с постели.
— Вчера ночью, — начала мама дрогнувшим голосом, — у нас было большое несчастье, папу арестовали, — и чуть не заплакала.
Мы были в отупении…
Сегодня у меня самый ужасный день…»
Запись в дневнике обведена чернилами в черную рамку.
Конечно, это всего лишь совпадение с трагической для страны датой, но одна из существенных причин ареста в том, что за год до этого В.А. Трифонов передал в Политбюро ЦК ВКП(б) рукопись книги «Контуры грядущей войны» — о специфике предстоящей войны с фашистской Германией. Написал он ее за пять лет ДО начала войны…
Эту небольшую по объему работу специалисты правомерно считают крупным военно-теоретическим трудом. Она была напечатана только в 1996 году вместе с работой М.Н. Тухачевского. Многие годы Валентин Трифонов занимался анализом проблем, относящихся к военным делам, — был убежден в неизбежности войны с гитлеровской Германией.
В.А. Трифонов имел право профессионально судить о нашей готовности к войне: один из организаторов РККА с января 1918 года, член Наркомвоена, член реввоенсоветов ряда армий и фронтов в Гражданскую войну, он продолжал активно заниматься военными делами, когда работал в Китае, был первым председателем Военной коллегии Верховного суда СССР, возглавлял Нефтесиндикат, торгпредство в Финляндии, а потом Главный концессионный комитет при Совнаркоме СССР, автор книг и статей по экономике и военным проблемам. И везде «напрямую» пересекался со Сталиным. Так что тот знал профессионализм суждений В.А. Трифонова.
Основной тезис в книге Трифонова — об обороне в масштабе значительной части стратегической группировки вооруженных сил и фронта будущей войны — противоречил Полевому уставу РККА, где закреплена наступательная военная доктрина. Он еще более усугубляет свою позицию в письме в ЦК партии (4 марта 1937 г.), где пишет, что в Уставе «совершенно никак не упоминается о позиционной войне, не рассматривается вопрос об отступлении… Устав не содержит всего того, с чем мы обязательно столкнемся в грядущей войне». В другом письме в ЦК (17 июня 1937 г.) он высказывает озабоченность профессионально-психологическим настроем командного состава РККА: будем воевать на чужой территории, т. е. мы будем вести наступательную войну.
Трифонов считает большой ошибкой, что обороне и защите границ придается второстепенное значение. «Эта концепция, — пишет он, — не учитывает, что в грядущей войне наш наиболее вероятный и самый могущественный противник на западе — Германия, которая будет иметь перед нами крупное преимущество внезапного нападения (здесь и далее курсив мой.— А. Ш.). Это преимущество можно компенсировать только одним путем: созданием мощной обороны вдоль границ… Оборона является наиболее результативным способом действий и более полезной, чем наступление для государства, располагающего обширной территорией».
Он исходил из того, что действия РККА начнутся, когда на страну нападут, — действия будут «от обороны». Подготовка к обороне как основному фактору будущей войны должна пронизать все структуры РККА. Он поясняет в книге специфическое взаимодействие разных по своей внутренней структуре войсковых соединений. В частности, он пишет, что «вопрос о том, как защитить территорию от воздушных нападений, является одним из основных кардинальнейших вопросов грядущей войны», прогнозирует и пишет об оборонительных и наступательных действиях механизированных, танковых и броневых соединений, массированных ударах авиации и противовоздушной обороне. И там же — о необходимости перевода промышленности на Урал и в Сибирь, потому что с учетом возможного нападения на страну эти центры не должны быть расположены близко к границе, как, например, Ленинград.
В заключение он пишет: «Оборона является сильнейшим способом ведения войны и потому план войны, в основу которого положена оборона границ, потребует от государства меньших средств по сравнению с планом наступательной войны. Таким образом, оборона является не только сильнейшим, но и наиболее экономным способом ведения наземной войны. Грядущая война, как и прошлая мировая война, будет войной на истощение, в этой войне победит тот, кто будет иметь больше ресурсов и кто наиболее разумно будет оперировать имеющимися ресурсами. Оборона является наиболее экономным способом ведения войны, и поэтому оборона в условиях грядущей войны даст обороняющемуся, при прочих равных условиях, лишний шанс на победу».
В последнем письме в ЦК за несколько дней до ареста он писал, что «придушена военная мысль и ее основные составляющие», создается «затхлая обстановка, которая подавляет всякую живую критическую и творческую военную мысль», отвергал «опасные концепции, утверждающие, что воевать мы будем на чужой территории, и поэтому для нас второстепенное значение имеют проблемы защиты государства и вообще проблемы обороны», подчеркивал актуальность работ по противовоздушной обороне, рациональному использованию современного оружия и настаивал на ошибочности концепции нового Устава, где в основе — разработки военной стратегии и в производстве новой техники превалирует «потакание предрассудкам и заблуждениям, родившимся и окрепшим в период Гражданской войны. <…> Надо самым решительным образом покончить с заговором молчания по стратегическим вопросам».
Нарком обороны К.Е. Ворошилов в разговоре с ним по телефону сказал, что вряд ли сумеет найти время, чтобы ознакомиться с его работой, а Сталин «ответил» по-своему, дав санкцию на арест автора письма и книги.
Догадывался ли Валентин Трифонов, чем для него может обернуться такой анализ предвоенной ситуации в стране, да еще и при отсутствии сколько-нибудь приличных для того времени восхвалений в адрес Сталина? Но не мог поступить иначе, промолчать, солгать. Еще была надежда, что интересы безопасности страны заставят Сталина отказаться от пагубных политических и экономических решений. Полагаю, он догадывался о последствиях. Как пишет Т.В. Трифонова, сестра писателя, «мама вспоминала, что отец как-то в последние годы сказал ей: «Мы создали паскудную власть. Это фашисты».
Так, выступая на закрытом заседании Политбюро ЦК 19 августа 1939 года накануне подписания пакта с Гитлером, Сталин говорил: «Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен… Германия предоставляет нам полную свободу действий в Прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией… Для реализации этих планов необходимо, чтобы война продлилась как можно дольше (но Вторая мировая война еще и не началась! — А. Ш.), и именно в эту сторону должны быть направлены силы, которыми мы располагаем в Западной Европе и на Балканах… Позже все народы, попавшие под «защиту» победоносной Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции…»
А через два года советский народ «заплатил» десятками миллионов жизней за такую политику, направленную на мифическую победу мировой революции.
О неизбежности войны с Германией писал накануне 22 июня Лев Федотов, близкий друг Юрия Трифонова (общий класс и парта, общий двор будущего трагического Дома на набережной). Вероятно, их дружба позволяла говорить и об этом, несмотря на заявление ТАСС. В отличие от «стратега» Сталина еще 5 июня, а потом и 21 июня 1941 года семнадцатилетний школьник Лева Федотов рассуждал и делал записи в своем уникальном дневнике, уместив весь ход будущей войны на нескольких тетрадочных страницах. Друзья называли его современным Леонардо да Винчи, а Юрий Трифонов писал о нем как о «гармонично развитой личности». Потом исследователи не могли поверить, что суть плана Гитлера описал какой-то школьник. Повторю: школьник понимал и предвидел, а не Сталин с мощнейшим партийно-военным аппаратом, призванным защищать народ, но бросившим страну на растерзание врагам.
15 марта 1938 года после пятнадцатиминутного суда Валентин Трифонов был расстрелян. Его жена, мать Юрия Трифонова, была арестована через несколько недель как ЧСИР (член семьи изменника родины) и приговорена к восьми годам заключения, которые «отработала» в Карлаге «от звонка до звонка». В декабре 1937 года от инфаркта скончался комдив Евгений Андреевич Трифонов, старший брат отца, не перенесший исключение из партии и арест брата. Дядя Юрия Трифонова П.А. Лурье (брат матери) был арестован в 1937 году и приговорен к лагерному сроку заключения (БАМлаг).
Рыбчинский: Ни к какой наступательной войне Сталин не готовился. Наоборот, делал все, чтобы Гитлер первым напал на СССР
Наталия ДВАЛИ
Редактор, журналист
17 июня 2016
Ровно 77 лет назад, в сентябре 1941 года, в оккупированном Киеве немецкие войска начали массовые расстрелы в Бабьем Яру. Только за первые несколько дней были убиты почти 34 тысячи киевских евреев. Уничтожив всех евреев, которых смогли найти, нацисты "приступили" к другим жителям украинской столицы – ромам, членам ОУН, советским военнопленным, подпольщикам. По разным данным, за время оккупации Киева в 1941–1943 годах в Бабьем Яру были убиты от 70 до 150 тысяч человек.
В интервью изданию "ГОРДОН" известный украинский поэт и драматург, коренной киевлянин Юрий Рыбчинский рассказал, как в студенческие годы стал собирать сведения очевидцев, выживших в Бабьем Яру, и почему их воспоминания натолкнули его на версию, что и взрывы в центре Киеве в 1941‑м, и массовые расстрелы евреев, и репрессии советского командования, предшествовавшие нападению Германии на СССР, были хорошо спланированной провокацией Сталина, чтобы заставить Гитлера начать войну против Советского Союза.
Захватывая города, нацисты строили гетто и концлагеря для евреев, где держали их годами, но только в Киеве их сразу начали уничтожать
— Я очень давно, — начал беседу Рыбчинский, — хочу встретиться и пообщаться с Виктором Суворовым…
— …бывшим советским разведчиком Владимиром Резуном, который больше 40 лет назад перебрался в Великобританию, взял псевдоним Виктор Суворов и стал известным писателем.
— Да. Так или иначе мне приходится заниматься историей, и у меня на очень многие вопросы прошлого свой взгляд, отличный от Суворова.
— Вы имеете в виду главные историко-документальные романы Суворова о Второй мировой войне, где он доказывает, что Сталин собирался первым напасть на Гитлера и захватить пол-Европы?
— Я заинтересовался Второй мировой еще в студенческие годы. В середине 1960-х в Киеве я познакомился с писателем Анатолием Кузнецовым, который в то время искал волонтеров для своего романа "Бабий Яр".
— Что значит "волонтеров для романа"?
— Студентов, журналистов, которые бы записывали воспоминания выживших очевидцев первых лет оккупации Киева гитлеровскими войсками в 1941–1943 годах. Даже в 1960-е люди боялись об этом рассказывать, хотя находились и такие, кто охотно делился воспоминаниями, не задумываясь о последствиях. В общем, я получил такое количество необычной информации…
— Чем "необычной"?
— Очень многое из свидетельств очевидцев оккупации Киева, особенно событий в Бабьем Яру, не совпадало с версией, которую нам давала советская историография.
— Что конкретно не совпадало?
— Сразу возникало несколько логических вопросов. Первый: почему в Киеве и только в Киеве, больше нигде, произошло такое страшное злодеяние, когда в первые дни оккупации немцы сразу же уничтожили несколько тысяч евреев? Почему ненависть к киевским евреям была больше, чем, к примеру, одесским, варшавским, вильнюсским и так далее? Захватывая города, нацисты строили гетто и концлагеря для евреев, где держали их годами, но почему-то только в Киеве их сразу же начали уничтожать.
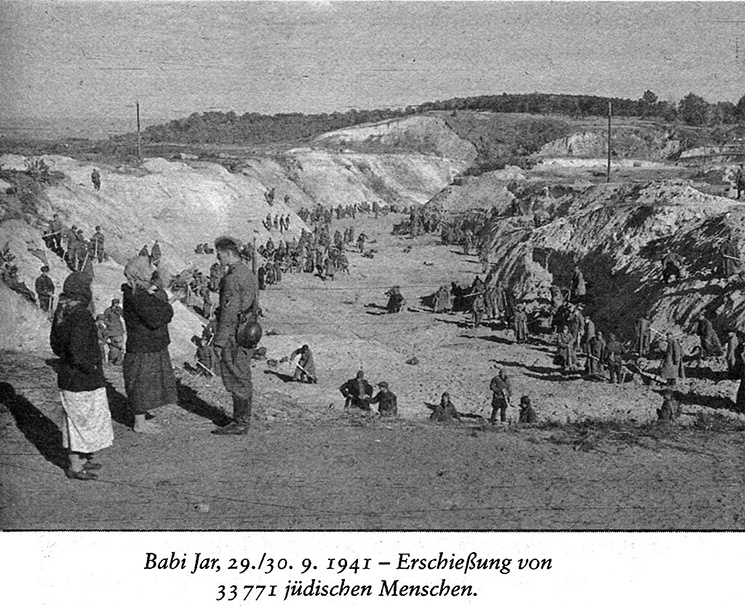 29–30 сентября 1941 года, оккупированный Киев, Бабий Яр, подготовка к массовому расстрелу. Фото: ru.wikipedia.org
29–30 сентября 1941 года, оккупированный Киев, Бабий Яр, подготовка к массовому расстрелу. Фото: ru.wikipedia.org
Второй вопрос, на который я искал ответ: почему советская власть делала все, чтобы скрыть трагедию Бабьего Яра уже в послесталинские времена? Почему в 1960-е вместо мемориального комплекса власть устраивала там свалку, пыталась разбить парк, бетонировала массовые захоронения? Почему коммунисты так протестовали против поэмы Евгения Евтушенко "Бабий Яр"?
— Написанной, кстати, в 1961 году.
— Я приходил домой, рассказывал папе, что узнавал от очевидцев, а он говорил: "Тебя из университета исключат, помалкивай".
Советская официальная версия в чем заключалась? Немцы вошли в Киев и якобы взорвали Крещатик и Успенский собор Киево-Печерской лавры. Но пазлы не сходились: очевидцы рассказывали, что немцев встречали с цветами и хлебом-солью. Встречали не только в Киеве, но и в Виннице, Полтаве и так далее. Немцев встречали как освободителей от сталинского режима. И зачем тогда германским войскам взрывать город и собор? Логически не сходилось.
— Вы начали наш разговор с упоминания Суворова и того, что у вас с ним расходятся взгляды на некоторые события Второй мировой. Почему расходятся, если Суворов еще с 1990-х писал, что при отступлении из Киева именно советские войска сожгли и заминировали полгорода?
— Да, в перестроечные времена появились книги Суворова о первых днях Великой Отечественной войны. Я с интересом читал его версию, почему такое огромное количество советских граждан попали в плен, почему отступили советские войска. Получив доступ к документам, которые опубликовал Суворов, добавив к ним другие, плюс прочитав воспоминания очевидцев и труды Волкогонова и Радзинского о Сталине…
В советские времена я часто ездил отдыхать в Грузию, общался с хорошо знавшими те времена старыми грузинами. Они рассказывали о Сталине совершенно другие вещи, многие из которых не вошли в книги.
Сталин задумал гораздо более сложный план и сам все сделал для того, чтобы Гитлер первым напал на Советский Союз
— Так в чем у вас расхождения с Суворовым и другими авторами, писавшими о Второй мировой?
— Мне кажется, одна из фундаментальных ошибок многих исследователей в том, что никто из них до конца не понял глубинный характер диктатора. Не только Сталина или Гитлера, но вообще диктатора. Слишком упрощенно и прямолинейно подают. Нельзя судить об айсберге только по его надводной части. У того же Сталина все было гораздо сложнее и коварнее, но большинство судят о нем лишь по видимой части.
— Что конкретно вы имеете в виду под невидимой частью Сталина и его куда большем коварстве, чем это описывают исследователи?
— Подвергаю сомнению утверждение Суворова, что Сталин готовился к наступательной войне с Германией, а Гитлер его опередил. Советский диктатор был гораздо умнее и коварнее, чем это кажется тому же Суворову.
Я утверждаю: Сталин прекрасно осознавал, что начать войну против Гитлера первым — это самоубийство. В 1939-м Советский Союз развязал войну с Финляндией и проиграл. А ведь Финляндия, в сравнении с гитлеровской Германией, была намного меньше и слабее в военном и экономическом плане.
Кроме того, из-за нападения на Финляндию СССР исключили из Лиги Наций как агрессора. То есть Сталин понимал: если первым начнет войну против Гитлера, западная коалиция точно его не поддержит, СССР станет таким же агрессором, как и Германия. Более того, в этом случае западная коалиция поддержит капиталистическую Германию, даже с Гитлером во главе, а не коммунистический Советский Союз.
Озвучу свою версию, при которой все пазлы сходятся и все становится логичным, понятным, а именно: Сталин задумал гораздо более сложный план и сам все сделал для того, чтобы Гитлер первым напал на Советский Союз.
— Иными словами, советский диктатор разработал многоходовочку, чтобы гитлеровская Германия, вопреки пакту Молотова–Риббентропа, все-таки первой напала на СССР?
— Да. Казалось бы, заключив пакт Молотова–Риббентропа о ненападении, можно было долго пользоваться плодами мира, как минимум 10 лет, как указывалось в документе. Но Сталин, как умнейший и коварнейший человек, понимал: это даст возможность Гитлеру завоевать Англию, а с ней, по сути, полмира, потому что Британская империя — это в том числе Канада, Австралия, Индия, Африка.
— То есть нападать на Гитлера, уже завоевавшего Британскую империю, — бессмысленно, потому что это означает воевать с половиной мира. Нападать на Гитлера, не завоевавшего Британскую империю, — тоже означает войну с половиной мира, потому что Западу гораздо важнее не допустить распространения коммунистического режима, даже ценой поддержки нацистов. Я правильно вас поняла?
— Конечно. Более того, даже если бы США не вмешивались ни в один из двух вариантов развития событий, было ясно: если западная коалиция станет на сторону Германии, СССР не устоит.
— Поэтому нужно, чтобы Гитлер до возможного завоевания Англии сначала напал бы на СССР, что автоматически заставит западную коалицию выступить в поддержку официальной Москвы? И Сталин всячески подталкивал Гитлера к нападению на Советский Союз?
— Гитлер трижды пытается пробить план "Барбаросса" на случай будущей войны с Советским Союзом. Но трижды немецкий генералитет не поддерживает этот план. Почему? Главный аргумент — у немцев нет полководцев уровня маршалов СССР Тухачевского, Блюхера и других. Зная этот аргумент, Сталин уничтожает всю верхушку советской армии.
Какой главнокомандующий, который действительно готовится первым напасть на другую страну, уничтожит весь свой высший командный состав? Там же сумасшедшие цифры были! А ведь чтобы найти им замену и вырастить равновеликих полководцев, даже 10 лет недостаточно.
Справка "ГОРДОН".
За 1937–1938 годы в Советском Союзе были расстреляны:
— три маршала из пяти;
— два армейских комиссара I ранга из двух;
— два командарма I ранга из четырех;
— 12 командармов II ранга из 12;
— два флагмана флота I ранга из двух;
— 15 армейских комиссаров II ранга из 15;
— 60 командиров корпусов из 67;
— 25 корпусных комиссаров из 28;
— 136 командиров дивизий из 199;
— 221 командир бригады из 397;
— 34 бригадных комиссара из 36.
Источник: "Исторические хроники с Николаем Сванидзе"
Ни к какой наступательной войне Сталин не готовился. Наоборот, делал все, чтобы Гитлер сам первым напал на СССР
— Во-первых, по официальной версии, того же Тухачевского и Блюхера казнили "за военно-политический заговор против советской власти, стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами". Не логичнее предположить, что Сталин боялся восстания против себя красных командиров, имевших авторитет и поддержку в народе? Во-вторых, ваш аргумент, что Сталин уничтожает верхушку своей же армии, чтобы заставить Гитлера побыстрее напасть на СССР, работает и в обратную сторону. Если Сталин действительно разрабатывал многоходовку и подставил под удар свою страну, чтобы в будущем гарантированно завоевать пол-Европы, зачем уничтожать маршалов? Ведь многоходовочка могла провалиться, а СССР — не устоять под напором германских войск.
— Сталин интересовался всем, но лучше всего знал историю. Он хорошо помнил, чем закончился поход великого Наполеона в Россию. Он понимал, что Гитлер не сможет провести молниеносную войну, не сможет поглотить СССР, завязнет и проиграет.
Кроме того, Сталин прекрасно понимал, если СССР станет жертвой нападения, Англия и США обязательно объединятся в борьбе против Гитлера и тому придется воевать на два фронта — и с Советским Союзом, и с западной коалицией.
Те, кто утверждает, будто Сталин недооценил сообщения разведки, что Гитлер собирается напасть на СССР, — не поняли глубинной игры советского диктатора. Какой приказ отдает Сталин, когда немецкие войска вторглись в Советский Союз?
— "…не поддаваться ни на какие провокационные действия, одновременно быть в полной боевой готовности встретить возможный удар, других мероприятий без особого распоряжения не проводить".
— Вот именно, не поддаваться на провокации! Ничего из нашей недавней истории не напоминает? Какие "провокации", если враг уже границу перешел, уже бомбит военные аэродромы?
Летом 1941 года зерно, нефть, уголь продолжают поставляться из СССР в Германию. Кроме того, если Сталин действительно собирался сам начать войну с Германией после подписания пакта Молотова–Риббентропа, зачем наводнил Советский Союз немецкими военными специалистами? Они же на всех советских военных заводах были. Когда немцы вторглись в СССР, у них карты были более точными, чем у советских военных!
— Секундочку. В подтверждение версии, что нападение Германии стало для советского диктатора неожиданностью, говорит тот факт, что после вторжения немецких войск Сталин исчез из публичного пространства. О вероломном нападении Гитлера сообщил советскому народу Молотов.
— Сталин испугался не того, что Гитлер напал. Когда началось отступление советских войск и невероятные потери, Сталин испугался, что свои же военные его арестуют, потому что раскрыли план по заманиванию Гитлера.
— То есть мы интерпретируем поступки Сталина исходя из своей логики, а надо исходя из логики диктатора?
— Ну конечно! Первое, что надо понять: ни к какой наступательной войне Сталин не готовился. Наоборот, делал все, чтобы Гитлер сам первым напал на СССР. И когда мы все это поймем, станет понятным и логичным все, что происходило в первые месяцы оккупации Киева.
Как только в Киеве массово начали уничтожать евреев, Сталин сделал все, чтобы об этом узнал весь мир. У немецкого лобби в США не осталось шансов
— Хорошо, давайте перейдем непосредственно к оккупации Киева и трагедии Бабьего Яра. Как это вписывалось в многоходовочку Сталина по заманиванию Гитлера?
— Исходя из планов, которые затеял Сталин, ему нужно было, чтобы не просто была создана западная коалиция против Гитлера, но чтобы в эту коалицию обязательно вошли США.
Великобритания уже участвует во Второй мировой, а ее главный союзник, Америка, нет. Более того, США во главе с Рузвельтом в это время поднимает собственную экономику за счет одновременных поставок продукции в воюющие между собой Англию и Германию.
В это время в США действуют два крупнейших лобби — немецкое и еврейское. В отличие от советского и немецкого лидеров, американский президент очень зависим от лобби, не может самостоятельно принимать многих решений, без учетов интереса лоббистских групп.
Многие почему-то думают, что в США самая большая диаспора испанская, итальянская, еврейская. Это неправда, самая большая диаспора — немецкая. Немецкая эмиграция в США длилась веками. Немецкое лобби в США было намного сильнее еврейского. Нужен был убийственный аргумент, чтобы еврейское лобби победило и Рузвельт получил неоспоримое право вступить во Вторую мировую войну против Гитлера. И этим аргументом стал Бабий Яр.
— Юрий Евгеньевич, стоп. Вы всерьез считаете, что массовое уничтожение евреев в Киеве — это провокация американского еврейского лобби?
— Вы не совсем правильно поняли мою мысль. Чтобы осознать злодейскую гениальность Сталина, достаточно знать, что он оставляет в Киеве подпольную группу Ивана Кудри, а советские войска перед отступлением минируют весь центр города, включая Оперный театр, Крещатик, консерваторию, Лавру. Причем минируют радиоуправляемыми фугасами. В 1940-х таких бомб ни у кого, кроме Советского Союза, не было.

Сентябрь 1941 года, Киев, взорванный Крещатик. Фото: memory.gov.ua
Немцы входят в Киев, селятся в центре, их встречают как освободителей от страшного коммунистического режима с его голодоморами и репрессиями. И вдруг происходят взрывы в самом центре, погибают немецкие генералы и полковники, тут же подбрасываются документы: якобы за взрывами стоят еврейские врачи, учителя, интеллигенция.
27–28 сентября 1941 года по всему городу уже расклеены объявления на русском, украинском и немецком языках: "Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября 1941 г., к 8.00 на угол Мельниковой и Доктеривской улиц (возле кладбища). Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян".
И киевские евреи не испугались, ничего не заподозрили, спокойно пошли.
— Почему?
— Несколько причин. Со времен гражданской войны в Украине 1917–1921 годов прошло всего 20 лет, многие помнили, что тогда в Киеве порядок сумел навести только гетман Скоропадский при поддержке немцев. Тогда большинство немцев жили в семьях богатых евреев, многие из них помнили те времена.
Возвращаясь к Сталину. Как только в Киеве массово, десятками тысяч, начали уничтожать евреев, Сталин сделал все, чтобы об этом узнал весь мир. У немецкого лобби в США не осталось шансов: чтобы их не заподозрили в соучастии, они ослабили хватку и не препятствовали вступлению Америки во Вторую мировую.
Сталин приложился к тому, чтобы привести Гитлера к власти. Об этом мало говорят, хотя это очевидные вещи
— Давайте уточним вашу версию. Американскому еврейскому лобби было важно, чтобы США быстро и жестко выступили против нацисткой Германии. Настолько важно, что, зная о советской провокации со взрывами в центре Киева, они все равно это допустили, несмотря на то, что это в первую очередь угрожало украинским евреям. Так?
— Чем фашисты отличались от коммунистов? Коммунисты говорили одно — делали другое, а фашисты делали ровно то, что декларировали. Сказали, что займутся окончательным решением "еврейского вопроса" — занялись. И Бабий Яр стал наглядным подтверждением, что будет дальше с евреями по всему миру. Советское руководство и еврейское лобби в США сделали все, чтобы в 1941-м о массовых расстрелах в Бабьем Яру узнал весь мир.
Сталину это нужно было, чтобы возникла коалиция Англия — США — СССР, потому что в случае победы в войне он рассчитывал почти на половину Европы. Еврейскому лобби это нужно было, чтобы открыть миру глаза: не остановите Гитлера — трагедия Бабьего Яра распространится на все страны, захваченные нацистами.
Если моя версия неверна, тогда мы должны ответить на логический вопрос: почему нацисты киевских евреев ненавидели больше, чем вильнюсских или варшавских? Почему сразу их уничтожили? На Нюрнбергском процессе, будь я на месте советского прокурора Руденко, именно это и спросил бы у верхушки нацистской Германии.
— Как думаете, что бы вам ответили подсудимые?
— Засмеялись и сказали бы: "Для нас не было никакой разницы между киевскими и другими евреями, просто в Киеве евреи сделали то, что не делали евреи ни в одном другом городе и стране — взорвали центр, погибли наши".
На Нюрнбергском процессе руководители гитлеровской Германии отрицали, что взрывали центр Киева, а главное — Лавру. После первой, неудачной, попытки советской подпольной группы взорвать Лавру, немцы выставили охрану, отселили многих коренных киевлян, живших рядом с монастырем. Взорвать собор удалось со второго раза. Но и первая попытка, несмотря на провал, сработала: эта провокация привела к Бабьему Яру. Советская подпольная группа должна была настроить православное население против немцев, для этого и нужен был взрыв Лавры. А ведь немцы с церквями не воевали. С церквями воевали как раз коммунисты.

3 ноября 1941 года был взорван Успенский собор — главный соборный храм Киево-Печерской лавры. Собор взорвали со второй попытки, первая была в сентябре. Фото: memory.gov.ua
К слову, чтобы привести Гитлера к власти в Германии. Об этом мало говорят, хотя это очевидные вещи. Долгие годы между немецкими коммунистами и социал-демократами существовала коалиция, из-за чего третья сила — национал-социалисты во главе с Гитлером — никак не могла прийти к власти. Сталин вбил клин, перессорил социал-демократов с коммунистами и помог Гитлеру прийти к власти в 1933-м.
Сталин на протяжении многих лет знал, что Гитлер делает каждый день, что ест-пьет, с кем встречается. Точно так же и Гитлеру докладывали о каждом дне Сталина. Они друг друга интересовали, не могли существовать один без другого, иначе бы потеряли власть в своих странах.
— Почему Гитлер со своим незаурядным умом не понял, что Сталин заманивает его в ловушку?
— Не думаю, что у фюрера был незаурядный ум. Он мистик и иррационалист, а с точки зрения логики — шизофреник, параноик и идиот. Многие его поступки непонятны именно потому, что рассматриваются с логической, рациональной точки зрения. А надо рассматривать с мистической.
Гитлер не верил в рацио, не верил в Бога. По-настоящему он верил только в сверхчеловека — могущественное существо, воля которого меняет вектор исторического развития. Гитлер был убежден, что сверхчеловек находится в Шамбале — мифической стране в Тибете, которая упоминается в древних текстах.
Обратите внимание, Гитлер сохранял спокойствие, даже когда проигрывал ключевые сражения. Сохранял спокойствие не только потому, что надеялся на атомную бомбу, которая разрабатывалась в Германии с 1939-го. А потому, что все свои победы связывал с желанием сверхчеловека, был убежден, что тот обязательно придет на помощь.
Когда поражения пошли одно за другим, Гитлер опять обращается к древним тибетским книгам, где было объяснено: сверхчеловек имеет отличный от человеческого цикл бодрствования и сна, он может годами не спать, а после надолго засыпает. В книгах было сказано, что сверхчеловек может проснуться и прийти на помощь, если ему принесут огромное жертвоприношение. И Гитлер совершает поступок, за который его посчитали сумасшедшим: топит в берлинском метро 20 тысяч человек.
Сталин, кстати, прекрасно понимал мистически иррациональное мышление Гитлера и умело им пользовался в своих целях.
Утверждение, будто "украинцы и россияне — один народ", тоже фундаментальная ошибка и примитивизация
— Очень тяжело психологически принять вашу версию, что Сталин целенаправленно подводил Гитлера напасть на Советский Союз и развязать войну с десятками миллионов жертв.
— Многие говорят: вот, в отличие от многих авторитарных лидеров, у Сталина не было личных капиталов. Да, но у него был в полном распоряжении 300-миллионный Советский Союз. Еще у вождя народов были глобальные идеи, главная из которых — создать коалицию коммунистических государств сначала в Европе, после — по всему миру. Для него всегда были актуальны строки "Даешь Варшаву, дай Берлин!", написанные еще при Ленине и Троцком.
В мозгу Сталина сидело не только желание владеть самой большой по площади и ресурсам державой в мире, но и стать лидером мирового коммунистического движения. Ему было наплевать, сколько народов погибнет ради достижения этой цели. И если для Гитлера любые жертвы — это сакральное подношение, то для Сталина — статистика.
Чем дальше те или иные события от нас отдаляются, тем больше примитивизируются и упрощаются, не давая ответы на глубинные вопросы.
— А почему ответы на эти вопросы важны именно сейчас?
— Потому что надо осознать: прошлое нельзя перенести в сегодняшний день. Например, у России два прошлых — Российская империя и Советский Союз. Их невозможно соединить. Если хочешь восстановить советскую империю, то Николай II никак не может быть в ней святым. Если хочешь восстановить царскую империю, то как можно считать Сталина "эффективным менеджером"?
Прошлое, даже самое положительное, нельзя реанимировать. Это фундаментальная ошибка. Кстати, утверждение, будто "украинцы и россияне — один народ", тоже фундаментальная ошибка и примитивизация.
Сталин хотел создать новую нацию советских людей с помощью интернационализма. Не удалось, все равно люди остались грузинами, татарами, украинцами. Гитлер хотел создать нового человека на основе нацизма. Не удалось.
Весь ХХ век, вопреки стараниям двух тиранов, доказал: это сделать невозможно, потому что началась такая ассимиляция людей, племен, народов, что для большинства понятие национальности ушло на второй план. А для людей XXI века это вообще неактуально.
Корюковская трагедия 1943 года
Месть, массовые убийства взрослых и детей, кровь, поджоги, попытки спрятаться, помощи ждать не от кого, безысходность, смерть. Это все — Корюковка в период 1-2 марта 1943 года, где 75 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий времен Второй мировой войны
Село Корюковка Черниговской области было окружено нацистским карательным отрядом рано утром 1 марта 1943 года. "Под предлогом проверки документов людей сгоняли в помещение ресторана, земотдела, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, двух школ, на церковный двор", — пишет доктор исторических наук Дмитрий Веденеев в статье для ZN.UA.
Потом людей убивали. Делали это партиями по 50-100 человек. Несмотря на пол и возраст.
Так случилась одна из самых страшных трагедий времен Второй мировой войны. Историки называют ее наиболее масштабным убийством мирных жителей, совершенным нацистами. Убийством, которое по количеству жертв в разы превысило белорусскую Хатынь, чешское Лидице и французский Орадур, но осталось в тени на долгое время.
Спустя 75 лет о Корюковской трагедии снова заговорили. Верховная Рада в начале февраля внесла ее в перечень дат, касательно которых предусмотрены мероприятия на государственном уровне.
Историки продолжают изучение обстоятельств этой трагедии. Именно благодаря им, а также свидетельствам очевидцев мы можем восстановить примерную картину того, что происходило в черниговском селе, ставшем негласным символом зверств нацистов во Вторую мировую.
Давайте попробуем это сделать.
С чего все началось
В сентябре 1941 года в окрестностях оккупированной нацистами Корюковки зародилось партизанское движение. Его возглавил будущий дважды герой СССР Алексей Федоров.
Местные жители поддерживали активную связь с партизанами.
В феврале 1943 года в отместку за помощь партизанам нацисты сожгли ряд населенных пунктов и арестовали членов семей подпольщиков. В итоге десятки захваченных женщин и детей ожидали казни.
Алексей Федоров на тот момент отсутствовал — он находился в Москве. В его отсутствие командир взвода партизан Феодосий Ступак инициировал операцию против немецкого гарнизона в Корюковке, целью которой было освобождение задержанных. Идею поддержал замещавший Федорова Николай Попудренко.
Партизанская операция
Цель операции была выполнена. Николай Попудренко в радиограмме в Москву отчитался об ее итогах так:
— Гарнизон, состоявший в основном из венгерских военных, был разгромлен. Уничтожены 8 однотонных прицепов, 160 автомобильных покрышек, 2 гаража, механическая мастерская, слесарня, две лебедки, склад горючего, состав с сеном, пакгауз с картофелем, телефонная станция, состав с дровами и оборонной лесопродукцией.
— Взорван эшелон, уничтожены 18 вагонов, выведены из строя железнодорожные стрелки и сорвана колея длиной 5 км.
— Взорван деревянный мост длиной 8 метров, уничтожен дом Госбанка с денежной кладовой и связь.
— Трофеи: два станковых пулемета, 119 винтовок, 2500 патронов, зерно, продукты и масло.
— Взяты в плен: четыре венгра и один немец.
— Освобождены 97 заключенных.
Инициатор операции Феодосий Ступак во время атаки был убит.
Карательная операция
Утром 1 марта Корюковку окружил карательный отряд нацистов. Под предлогом проверки документов население начали сгонять в помещения театра, клуба, ресторана, школ, на церковный двор и т.д.
После этого людей партиями по 50-100 человек просто убивали, не обращая внимания на пол и возраст.
"Мама говорит: "Толя, Толечка, бежим". А он не послушал. Она меня дернула тихонько и мы вышли. Все понимали, что война, но никто не понимал, что убьют их здесь", — цитирует ТСН воспоминания очевидца случившегося Анны Нековальной.
На следующий день забитые трупами дома поджигали, прочесывание деревни на предмет оставшихся в живых продолжалось все два дня. Тех, кого удавалось найти, бросали в горящие избы.
"Моя маленькая дочь лежала у меня на груди, когда стреляли в нее проклятые палачи там, в ресторане. Где теперь братская могила, там стоял ресторан. Загоняли нас туда, как скот на бойню, и били из автоматов. Нину я на руках нес. А фашист попал мне в глаз. Я упал, а он по мне как застрочит. Здесь во мне все потемнело, и ничего я больше не помню. Трое моих детей были убиты. Даже закопать их не пришлось: и мертвых детей не увидел, сожгли их проклятые палачи. И не осталось от моих детей ничего. Даже могилки...", — вспоминает очевидец Евгений Рымарь.
По данным историков, в частности, специалистов Украинского института национальной памяти, всего было убито почти 7 тысяч человек.
"За 70 лет после уничтожения Корюковки свидетелям трагедии, органам власти, родным, близким и знакомым погибших, историкам и краеведам удалось установить поименно только 1893 жертвы. К сожалению, это только 28% всех убитых во время карательной акции", — пишет научный сотрудник УИНП Сергей Бутко.
"Судмедэксперты установили, что смерть была причинена "путем расстрела из автомата, расстрела из станкового пулемёта, физического насилия тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночного столба в шейной области, сжиганием живых людей", — уточняет историк Дмитрий Веденеев.
В УИНП озвучили, кто совершал эти массовые убийства. Исполнителем стала Сновская гарнизонная комендатура Черниговской области.
Она сформировала карательный отряд в составе немецких военнослужащих тыловых немецких формирований, военнослужащих 105-й легкой венгерской дивизии, сотрудников вспомогательной оккупационной полиции и коллаборационистов — граждан СССР.
Возглавили карательный отряд представители Зондеркоманды 4А. Одним из самых известных их преступлений было массовое убийство евреев в Бабьем Яру.
Приказ на уничтожение Корюковки и ее жителей отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры в Конотопе Сумской области Бруно Франц.
А что партизаны?
Корюковская трагедия
Бутко пишет, что в течение всей карательной акции партизаны Федорова оставались в лесах за 15 км от Корюковки. Приказа от командования спасти население они так и не получили.
"В нормативных документах советского партизанского движения, где были сформулированы их задачи борьбы, отсутствует даже упоминание о необходимости защиты гражданского населения от оккупационного террора. А советское командование всех уровней от Кремля и до молодого командира хорошо знало о системной нацистской политике возмездных репрессий против гражданского населения за акции советских партизан и подпольщиков", — пишет он.
"Корюковка не вписывалась в советский канон памяти, так как разбивала один из базовых мифов о войне советских партизан как "народных мстителей", которые ценой собственной жизни защищали местное население. Правда о Корюковской трагедии демонстрировала совсем другое поведение этих "защитников" — именно их акция спровоцировала карательную операцию нацистов. Однако когда отряд карателей уничтожал поселок и его жителей, почти в десять раз более многочисленный партизанский отряд, расположившийся за несколько километров, не сделал ничего для их спасения", — пишет в блоге на "Украинской правде" глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"После гибели Корюковки погибла и фашистская Германия"
В марте 2005 года поклониться памяти погибших жителей Корюковки прибыл посол Германии Дитмар Штюдеманн. Как пишет Веденеев, посол, стоя с цветами перед сотнями участников траурного митинга, заявил:
"Мы, немцы, хорошо осознаем сотворенное фашистами на вашей земле. То горе, те разрушения, которые они принесли, в конце концов "накрыли" и их самих. После гибели Корюковки погибла и фашистская Германия. Прошли годы. Возродилась и Германия, и Корюковка, стала независимой Украина. Народы обеих стран подают один одному руки над могилами погибших, хотя вина наша велика. Но людская дружба может совершить многое и многое, и это дает надежду, что больше не повторится война, не возродится фашизм…".
В Украине память жертв трагедии в Корюковке на государственном уровне впервые почтили в 2013 году.
Черниговский портал Cheline 1 марта 2017 года написал: "В 2012 году неподалеку Корюковки должны были бы построить целый Мемориальный комплекс стоимостью 50 миллионов гривен. За 2 миллиона здесь достроили часовню, поставили два креста и перезахоронили более 200 погибших. На этом строительство Мемориального комплекса жертвам Корюковской трагедии остановили".
Сталин назвал его преемником, подарил розу и... расстрелял
01 октября 2010
Николай Добрюха
https://www.obozrevatel.com/news/2010/9/30/394370.htm
1 октября 1950 года жертвой так называемого "ленинградского дела" стал Николай Вознесенский.
Все эти 60 лет его близкие молчали. И вот после выхода книги «Как убивали Сталина», автору вдруг позвонила младшая дочь Вознесенского Наталья Николаевна и согласилась рассказать все, что в действительности происходило в те очень неоднозначные годы. Тяжелы и противоречивы воспоминания дочери. Поэтому, чтобы лучше понимать их, сначала обратим внимание на то, о чем говорят архивы и спорят историки.
СУДЬБА ПРЕЕМНИКА
Николай Вознесенский — единственный человек, которого Сталин чуть ли не официально имел неосторожность назвать своим преемником.
В итоге этого преемника еще при жизни вождя буквально перемолола в ходе борьбы за власть мясорубка Берия и его сообщников - Маленкова, Хрущева и Булганина.
Официальным днем казни Вознесенского стало 1 октября 1950 года.
Сталин долгое время не хотел верить в грязь, с которой смешивали Вознесенского «соратники». В годы моей учебы на экономическом факультете МГУ преподаватель истории КПСС А. Кузьмич, работавшая в партийном архиве, рассказывала, как сама видела папку, на которой Сталин, когда ему дали дело Н. А. Вознесенского, написал: «Не верю!» — и потребовал перепроверки. Когда же Маленков, Берия и Хрущев подтвердили изложенные в деле факты, Сталин очень долго не мог прийти в себя...
Это отмечает даже такой антисталинист, как генерал Волкогонов. По его данным, осужденных по «ленинградскому делу» расстреляли в течение часа после объявления приговора. Вознесенского же «еще три месяца после приговора продержали в тюрьме. А в декабре 1950 г. по чьей-то команде... в легкой одежде повезли в грузовой машине в Москву. По дороге Вознесенский то ли замерз, то ли его застрелили...»
Подобную версию обнародовал и сын Маленкова Андрей, услышавший ее от своего отца в следующем виде: «Однажды Сталин спросил: «Вознесенский отправлен на Урал? Позаботьтесь, чтобы ему дали хорошую работу». Тогда отец сообщил Сталину, что Вознесенского отправили на Урал в холодном вагоне, без зимней одежды, и он замерз в пути. Явилось ли это новостью для Сталина или в его «заботе» о Вознесенском была игра? Отец считал, что правдоподобнее первое предположение. Очевидно, Сталина дезинформировали о судьбе Вознесенского, которого он ценил как специалиста».
«Может быть, — предполагал Волкогонов, — вождь колебался, ведь всю войну проработали вместе в Государственном комитете обороны: никто так много не сделал для развития экономики, как его заместитель».
Так что день смерти Н. А. Вознесенского неизвестен...
Но надо признать, что изложенные в «деле о работниках Госплана» факты действительно имели место. Другой вопрос: насколько сам председатель Госплана СССР Николай Вознесенский был виновен, например, в том, что с 1944-го по 1948 год пропало 236 секретных документов стратегического значения из сейфов госплановских органов (о чем он знал, но до последнего скрывал от Сталина). Или что одним отраслям народного хозяйства «по дружбе» занижали, а соперникам искусственно завышали планы производства?
Распространенная версия о том, что, называя преемников, Сталин проверял, кто не может дождаться его ухода, — несостоятельна! В поисках достойного и надежного наследника Сталин явно отдавал себе отчет, что он не вечен, и был не менее дальновидным, чем Ельцин при передаче власти Путину...
Судя по всему, несмотря на сталинское указание о необходимости тщательной перепроверки дела Вознесенского, тандем Берия — Маленков (при поддержке Хрущева и Булганина), наткнувшись на факт пропажи документов, не был заинтересован в поиске истинных виновников преступления. Им надо было устранять конкурентов в борьбе за кресло преемника. В итоге судьба Вознесенского оказалась предрешена.
Мрачная ирония в том, что, по воспоминаниям современников, Сталин еще долго говорил: «Загубили мы Вознесенского. Загубили!»
В нашей стране, где исторически роль личности особенно высока, случившееся с Вознесенским стало трагедией не только для его родных, но и, учитывая исключительные экономические способности Вознесенского, для всего народа. В том, что поговорка, дескать, «незаменимых людей нет» нам не подходит, мы неоднократно убеждались на протяжении всей истории нашего государства. И Сталин, чьи дни были уже сочтены, понимая все это, как свидетельствуют документы, пытался найти отправленному на тот свет Вознесенскому замену. Однако потерпел в этом отношении, быть может, единственное сокрушительное поражение, в результате чего после его смерти руль государства стал переходить из одних неумелых рук в другие. Что из этого выходило, наш государственный корабль особенно ощутил на себе в годы управления им Маленковым и Хрущевым, Горбачевым и Ельциным.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛО «ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»?
Большинство историков сходятся на том, что «ленинградское дело» было затеяно прежде всего с целью убрать именно Вознесенского, который, если бы пришел к руководству страной, скорее всего, сразу бы лишил власти группу Берия, Маленкова и Хрущева.
Сталин не случайно назвал Вознесенского своим преемником. Дело в том, что Вознесенский был не только одним из самых порядочных руководителей, но и самым успешным (несмотря на «политическую молодость», ему было всего 45!) разработчиком и исполнителем намеченных вождем планов. Работы Н. А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» и «Политическая экономия коммунизма», примененные в деле, свидетельствовали, что он — настоящий теоретик! Создание «экономики победы» в годы войны и быстрое восстановление разрушенного войной народного хозяйства всего за одну пятилетку и без иностранных займов были во многом его заслугой.
Доктор экономических наук, академик Вознесенский был не только генератором деловых идей, но и умел сам воплощать их так, что экономика развивалась стремительно даже в условиях невиданно разрушительной Второй мировой войны. И Сталин понимал это. (Для примера замечу: Хрущев даже слово «ознакомиться» писал «азнакомица»...) Руководитель Вознесенский, будучи настоящим ученым, делал ставку на самые современные способы научного управления государством и народным хозяйством... Не случайно с его «уходом» экономика сперва забуксовала, потом задергалась и наконец пришла в полный упадок. Советская империя прекратила свое существование.
Остается только гадать, кто именно выкрал из сейфа любимого ученика Сталина сверхсекретные документы о политике и экономике Кремля. Очевидно одно: сделал это кто-то из «своих», потому что за прошедшие 60 лет эти документы не всплыли ни в одной стране мира...
УКРАЛ ЛИ СТАЛИН РУКОПИСЬ ВОЗНЕСЕНСКОГО?
Наша встреча с дочерью Николая Вознесенского Натальей Николаевной состоялась в последнем прибежище Вознесенских — маленькой (крайне скромной по нашим временам) квартирке у Патриарших прудов, вокруг которых по сей день наводят на обывателей ужас тени невидимых героев романа «Мастер и Маргарита». Здесь, на Патриарших, в соседнем доме жил свергший Хрущева председатель КГБ Семичастный. О встречах с ним вы, вероятно, читали в «Комсомольской правде». И вот новая встреча — с потомками объявленного, но несостоявшегося преемника Сталина.Поначалу Наталья Николаевна была крайне осторожна в темах и до предела сдержанна в словах, но очень скоро ее словно прорвало: столько боли накопилось за эту вечность, за эти 60 лет! Она снова чувствовала себя рано повзрослевшей девочкой и четко, будто на допросах, давала исчерпывающие ответы...
Наш разговор начался с ее вопроса:
— Вот вы много и многих знаете... Моего отца приговорили к высшей мере за пропажу сверхсекретных документов. Но за что расстреляли сестру и брата отца? За что сидели моя мать и племянники отца? За что мы с сестрой пострадали? За что?
Что тут можно ответить? (У Истории свои уроки? Не все так однозначно?) И я спросил:
— Как познакомился с вашей мамой ваш отец? Сколько лет она прожила, после того как его не стало?
— Пятьдесят! Умерла в 2000-м. В возрасте 92 или 93 лет... По паспорту она была 1907 года, но уверяла, что 1909-го. А папа — 1903-го. Она с Украины. Звали ее Мария Андреевна Литвинова. Отец у нее — русский, мать - хохлушка. Очень рано умерла. Ее отец работал на железной дороге обходчиком, но был очень музыкальным человеком и бесплатно учил всех музыке. Потом маму как сироту в память о деде устроили библиотекаршей. И вот, когда моего отца послали в Енакиево на завод, там они и познакомились. Мать была небольшого роста. Отец — примерно такой, как Сталин, может, чуть выше. В последние годы он немного раздался...
Она постепенно успокаивается и вдруг:
— А вы знаете, что «известной» книги отца «Политэкономия коммунизма» не существует?
— Как это?
— Дело в том, что она существовала только в рукописи. Отец писал ее все последнее время, когда почти год сидел без работы дома. После написания (по данным профессора экономического факультета МГУ Александра Кошелева) секретарь Сталина Поскребышев якобы от имени вождя затребовал эту рукопись. И когда отца не стало, якобы дословно из этой рукописи были взяты главы, которые вдруг оказались основой сталинской брошюры «Экономические проблемы социализма в СССР»...
В свою очередь, бывший заместитель председателя КГБ генерал Бобков рассказывал, что, когда он учился в Высшей школе КГБ, политэкономию они сдавали по этой рукописи, она применялась для служебного пользования с обозначением авторства отца. Вот такая путаница...
При обыске при аресте отца его экземпляр рукописи изъяли. А в описи указали, что она сожжена. И даже племянник отца Лев Александрович Вознесенский, работавший помощником председателя Совмина СССР Рыжкова и имевший доступ ко многим архивам, не смог найти никаких следов. Единственным, кто хоть что-то смог ему сказать, был профессор Кошелев. Но откуда это знал он — неизвестно.
«ДАР ВОЖДЯ РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!»
— А какое отношение было у отца к Сталину?
— Он его просто обожал! До последнего. Даже когда был объявлен смертный приговор по «ленинградскому делу», он единственный сказал: «Свяжите меня с товарищем Сталиным!»... Кстати, то, что отца заморозили, — липа! Его расстреляли вместе со всеми. Во всяком случае, так написано в документах госбезопасности.
Я, конечно, маленькая была, но хорошо помню: стоит роза в бокале... Мать сидит перед зеркалом... И говорит: «Вот отец не дает до нее даже дотронуться... Ее ему Сталин подарил...»
Отец непьющим был, но настолько уважал Сталина, что каждый раз, когда семья садилась за воскресный стол, обязательно ставил бутылку «Хванчкары» — любимое вино Сталина...
Когда отца арестовывали, у него было много-много книг и всего два костюма. Не то что у Булганина (ставшего после смерти Сталина во главе СССР, то есть прямого конкурента Вознесенского. - Прим. авт.). Его жена бриллианты скупала. Булганин был еще тот тип... Если судить по материалам дела, отцовского брата на следствии довели до того, что он высох как не знаю кто. А тут еще к нему в тюрьму пришли Булганин с Берия, и Булганин его, беспомощного, стал избивать ногами. Вообще страшные вещи про Булганина вспоминают...
— А какое у вас отношение к Сталину?
— Двойственное. С одной стороны, конечно, то, что он уничтожил моего отца... Мне все равно, по какой причине! Главное для меня, что отца уничтожили. С другой стороны, Сталин все-таки великий был человек! Много было плохого, но никто не сделал для России столько хорошего, как Сталин! Я это от отца слышала. А вот племянник отца Лев Александрович Вознесенский считает Сталина последней сволочью...
Кстати, Сталин при всех называл отца «белой вороной», потому что Вознесенский, как говорил маршал Жуков, был чуть ли не единственным, кто мог при всех сказать Сталину то, что думает. За это Сталин его очень уважал. Отец видел это и, когда в чем-то с ним не соглашался, не боялся, что Сталин станет ему мстить.
...Обычно из матери слова насчет Сталина не вытянешь. А тут (было это после тюрьмы) не выдержала и вспомнила, как сказала отцу: «Только и слышно вокруг: сталинские пятилетки, сталинские пятилетки - особенно после войны!» А отец ей вдруг с грустью и говорит: «Да... пятилетки-то сталинские, да кто их разрабатывал?!»
Я еще от матери слышала, что судьба отца сразу оказалась под вопросом, как только Сталин сказал: «Моим преемником будет Вознесенский!» Борьба за власть, утихшая после смерти Жданова, тут же вспыхнула с новой силой. Особенно усердствовали против отца Берия и Хрущев. Совершенно ошибаются те, кто утверждает, что Сталин, разглядев в отце молодого и сильного соперника, тут же дал отмашку на его компрометацию и уничтожение. Ничего подобного! Потому что Сталин (в тех условиях!) был прежде всего вождь, а не руководитель. И авторитет его в этом отношении был непререкаем. Отца же он считал настоящим ученым и, как говорится, хозяйственником от Бога, из которого может и должен вырасти настоящий Хозяин такой великой страны, какой являлся тогда Советский Союз...
— Неужели Берия, Маленков и Хрущев так обвели Сталина вокруг пальца, что он даже не понял, что это всего-навсего обычная борьба за власть, что пропажа секретных документов подстроена с одной целью - вывести Вознесенского из этой борьбы? Или, может быть, Сталин все-таки им как-то подыграл?
— Знаете, дня за два до ареста отца, который уже очень долго был без работы, вдруг пригласил к себе Сталин. На ужин. Мать говорила: «Отец вернулся вдохновленный. Сталин ему сказал: «Все! Будем рекомендовать вас руководить Госбанком». Отец не находил себе места от радости. А через два дня пришли с арестом... Однако, когда отца уводили, он сказал: «Дети, помните, что партия делает все правильно!»
— И как вы это объясняете? Не иезуитски ли это выглядит?
— Может быть. Я даже не знаю, что думать. Может быть, за эти два дня Сталину какую-нибудь новую «безупречную информацию» подбросили? Эти сволочи на все были способны...
«МАРУСЬКА, ЗОЙКА ВСЕ СОЖРЕТ!»
— А у мамы какое отношение к Сталину было?
— А никакое. Ей (после тюрьмы), по-моему, плевать было на все... Впрочем, есть одно «но»: дело в том, что только мы с сестрой не попали ни в детдом для «врагов народа», ни в лагерь. Сестру даже учиться оставили в Архитектурном институте. Мария на 11 лет старше. В 49-м, при аресте отца, мне было уже 8 лет... Помню, как нас сразу переселили из правительственного дома с улицы Грановского (сейчас это Романов переулок, и там есть мемориальная доска отца). Сперва (еще с мамой) — на Зубовскую площадь в две комнатушки...
Маму, если не изменяет память, арестовали сразу после расстрела отца в Ленинграде. И выпустили... почти сразу после смерти Сталина. Около двух лет она сидела в одиночке на Лубянке, а последние полгода — в общей камере во Владимире. Когда маму перевели в общую камеру во Владимир, там с ней сидели какие-то сектанты, киноартистка Зоя Федорова и певица Лидия Русланова. Позже мать вспоминала, как муж Руслановой генерал Крюков присылал продуктовые посылки. И Русланова кричала матери: «Маруська, ну-ка иди скорей распаковывать, а то Зойка все сама сожрет!»
Про камеру вспоминала, а про Сталина — почти никогда. Видимо, на нее подействовало, что он сказал, чтобы нас, ее дочек, не трогали. И это тронуло ее до глубины души и на всю жизнь...
РАССТРЕЛЯННЫХ РАЗДЕВАЛИ ДОГОЛА
— Правда ли, что Вознесенский похоронен в Парголовском лесу под Ленинградом и что его не сожгли?
— Мне дали официальную справку, что их расстреляли в Ленинграде на Литейном, потом раздели догола и кучей закопали в яму. Ее место (примерно, конечно) указал шофер, вывозивший туда тела расстрелянных. Так что памятный камень над захоронением отца я поставила скорее чисто символически. Всю нашу семью реабилитировали. Только теперь зачем все это? Судьба непоправимо исковеркана. Жизнь прожита. Мне скоро 70. И то, что было, и то, что стало, и то, что есть, — все это нужно, наверное, только историкам...
Федор Лясс
Сталинская паранойя
http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer17/Ljass1.htm
(Сокращено)
Сталин был преступником, причем, учитывая его биографию, серийным и профессиональным преступником. Начав свою политическую карьеру с ограбления банков, став главой государства, он распространил свою внутригосударственную и внешнеполитическую преступную деятельность против мира, против человечности, жертвами которой стали не единицы, не сотни тысяч, а миллионы ни в чем не повинных людей. Давая оценку деятельности Сталина, необходимо указать на особую психологию его серийных преступлений, по которой почти со стопроцентной точностью можно установить не только общую канву преступления, но и многие его детали, говорящие о высоком преступном профессионализме того, кто совершал или руководил этими преступлениями.
У Сталина не было ни одной черты, свойственной болезненному состоянию психики. Он был всегда рационален, точен, всегда учитывал ситуацию, обладал хорошей сообразительностью и блестящей памятью. Рассуждения тех, кто приписывает ему психическую болезнь, лишены объективной аргументации.
Сталин был здоровым с точки зрения психиатрии как врачебной специальности, но у него была деформированная личность. Это область психопатии, дисгармонии эмоционально-волевой сферы, а не психиатрии. Решительный, циничный, проницательный, безжалостный тиран, без сердца и души, которому были чужды мораль и милосердие. Это определяло его поступки.
Необходимо также учитывать фактор времени — то, что в психологии и психиатрии носит название «профессиональной деформации личности», — когда изменение качеств личности происходит под влиянием профессиональной деятельности. Для Сталина — это продвижение к вершине власти, этапы ее утверждения, сохранения и возвеличивания до обожествления. Власть, власть и еще раз власть! Для Сталина это главная, единственная, всепоглощающая страсть, которую он удовлетворял, играя людьми, как шахматными фигурами. В своей совокупности все совершенные им противоправные деяния во все периоды его единоличного правления страной необъяснимы, если не учитывать и этот фактор.
Политика Сталина в течение всех лет его правления, по существу, была воплощением его личных интересов, протекавших на фоне такого состояния, которое в медицине называется паранойя. Но и это еще не все. Его параноидное состояние, особенно в последние годы, протекало на фоне постоянного ожесточения против всех окружавших его людей. Злость! Одно из любимых сталинских изречений: «Высшее наслаждение мужчины — раздавить врага, а потом выпить бокал хорошего грузинского вина». Чалидзе сделал попытку доказать, что Сталин не был параноиком, полагая, что истинная паранойя помешала бы эффективной политической деятельности. Но, согласно современным представлениям, нет действительной причины, в силу которой паранойя мешала бы политической деятельности. Доктор Б. Малкин, личный врач Сталина, был убежден, что у Сталина была скрытая форма душевной болезни, и ее симптомы — гипертрофированная подозрительность, жестокость, отсутствие каких-либо угрызений совести, позывов к раскаянию.
Еще одно состояние, которое определяло поведение Сталина, — неврастения (функциональное расстройство нервной системы на почве истощения и переутомления). Нервная система у Сталина с возрастом стала не выдерживать длительного, изматывающего напряжения и истощилась. Развилось то, что сейчас называется «неврозом тревоги». Неврастения проявляется в раздражительности, пугливости, в бессоннице и ночных кошмарах, тревожных предчувствиях. Ухудшение качества жизни проявляется, как правило, у человека, не соблюдающего норм психогигиены, которые предусматривают регулярный сон, чередование нагрузок и отдыха, переключение энергии с одного вида деятельности на другой, разнообразие в питании, ограничение в курении. Избавиться, тем более от тяжелой неврастении, без вмешательства врача не так-то просто, ибо лечение ни в коем случае не сводится только к изменению жизненного и рабочего режима. А мы точно знаем, что рабочий режим у Сталина был очень плотный, и от врачебной помощи Сталин отказался давным-давно, несмотря на явные недомогания.
Для того, чтобы не быть голословным, приведу основные черты, присущие Сталину. Самая важная — сознание особого значения собственной личности, отчего проистекает чрезмерное самомнение, неспособность прощать окружающим ни равнодушия к себе, ни несогласие с его «сверхценной идеей», крайний эгоизм, бесцеремонное отношение к другим, обидчивость и подозрительность. Если приложить ниже перечисленные симптомы к личности Сталина, то диагноз паранойяльной психопатии не вызывает сомнения. В качестве ее признаков врачами выделяются: 1) чрезвычайная чувствительность к «препятствиям» и «отказам» на пути достижения того, что для субъекта безусловно; 2) злопамятность в отношении оскорблений и обид, а также постоянная тенденция к недоброжелательности и зависти; 3) подозрительность и всепроникающая склонность искаженно воспринимать происходящее, неправильно истолковывая нейтральные и даже дружественные действия других, как проявления недоброжелательства и враждебности к себе; 4) воинственное и упорное отстаивание собственных прав, не считаясь с обстоятельствами; 5) склонность к патологической ревности; 6) ощущение чрезвычайной важности собственной особы; 7) озабоченность истолкованием событий как заговора. Если еще учесть, что паранойяльный тип обычно раскрывается в пору социальной зрелости, т.е. в 40 — 50 лет, можно придти к выводу, что именно паранойя — то, что в психиатрии имеет название «мономания», — обуславливала всю политическую деятельность Сталина.
Наиболее точную личностную психологическую оценку Сталина дает его дочь Светлана:
«Опустошенный, ожесточенный человек, отгородившийся стеной от старых коллег, от друзей, от близких, от всего мира, вместе со своими сообщниками превративший страну в тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее; человек, вызывавший страх и ненависть у миллионов людей, — это мой отец».
Среди многочисленных личностных характеристик Сталина из его самого близкого окружения представлю только еще две:
Микоян А. И. — Сталин в конце 30-х годов — это совершенно изменившийся человек: до предела подозрительный, безжалостный и страшно самоуверенный. О себе нередко говорил уже в третьем лице. По-моему, тогда он просто спятил. Впрочем, таким Сталин снова предстал перед нами и в последние три-четыре года до своей смерти.
Хрущев Н. С. — Сталин даже в туалет боялся зайти без охраны. Это, конечно, результат работы больного мозга. Человек сам себя запугал. Я один раз был свидетелем такого факта, и мне было очень неприятно. Сталин пошел в уборную. Охрана — человек, который за ним буквально по пятам ходил, остался на месте. Сталин вышел из уборной и набросился при нас на этого чекиста, начал его распекать: «Что вы не выполняете своих обязанностей? Вы охраняете, так вы должны охранять, а вы тут сидите, развалившись!»
Он оправдывался: «Товарищ Сталин, я же знаю, что там дверей нет. Вот одна дверь-то, так за той дверью стоит мой человек, который несет охрану». Он на него грубо набросился: «Вы со мной должны ходить!» Это невероятно, чтобы он с ним ходил даже в туалет!
Внутренние психологические процессы, происходившие у Сталина, не отличались от тех процессов, которые управляют поведением обыкновенного параноика. Только другими был социальный отклик и результаты. Если у обычного параноика его навязчивые мысли, страдания из-за комплекса неполноценности и поиска врага реализуются в виде ревности, создании различных проектов типа вечного двигателя; сутяжничества, идей преследования, то у Сталина, обладавшего неограниченной властью и возможностями для поддержки и реализации собственных паранойяльных идей, была к услугам громадная политическая и административная машина, и реализовались они политическими процессами, арестами, расстрелами, чистками, шельмованием в прессе и т.д. Для него ничего не было важнее, чем единоличная власть, а его жизнь и обстоятельства сложились так, что он стал главой огромного государства. Психологические отклонения, сформировавшиеся еще в юности и проявившиеся в виде конфликтов в семинарии, не изменились по сути и проявили себя в широких масштабах, влияя на судьбы миллионов людей. Эту возможность давал тоталитарный режим с его беззаконием, безнравственностью и антидемократией.
Есть и патоморфологическое объяснение девиантного характера сталинской личности, которую подробно описал академик А. Мясников:
«Сильный склероз мозговых артерий, который мы видели на вскрытии И. В. Сталина, может возбудить вопрос: насколько это заболевание, несомненно, развившееся на протяжении ряда лет, могло сказаться на состоянии Сталина, на его характере, на его поступках в эти годы. Ведь хорошо известно, что атеросклероз мозговых сосудов, приводящий к нарушению питания нервных клеток, сопровождается нарушением функций нервной системы. Прежде всего, со стороны высшей нервной деятельности отмечается ослабление процессов торможения, в том числе и дифференциального. Легко себе представить, что в поведении Сталина это проявлялось потерей ориентации — что хорошо, что дурно, что полезно, а что вредно, что допустимо, что недопустимо, кто друг, а кто враг. Параллельно происходит так называемое обострение черт личности: сердитый человек становится злым, несколько подозрительный становится подозрительным болезненно, начинает испытывать манию преследования — это полностью соответствует поведению Сталина в последние годы жизни».
К концу жизни Сталина, пишет Конквест, паранойя особенно ярко проявилась в его антисемитизме. Он был полностью поглощен идеей сионистских заговоров.
Паранойя — на то она и паранойя. Это душевное расстройство, которое, при полном сохранении умственных способностей, характеризуется систематизированными навязчивыми идеями, избавиться от которых невозможно и которые не поддаются никаким внешним вмешательствам. Поэтому Сталин с маниакальной последовательностью и повторяет свой криминальный стиль, в период «Позднего сталинизма» в 1948 — 1953 гг. Нашлось психопатологическое объяснение и параноидной привязанности Сталина к числу «13» при планировании и реализации ЕГО антиеврейских замыслов.
Сталин присвоил вновь сформированному в декабре 1952 г. в структуре 2-го управления ГРУ «антисионистскому» отделу № 13. На него была возложена задача по борьбе с еврейской «пятой колонной» внутри страны. Это зловещее «совпадение» отнюдь не было случайным: начальником отдела стал С. Огольцов — главный организатор убийства С.М. Михоэлса.
13 марта 1953 г. Сталин планировал начать открытый политический процесс над «врачами-вредителями» с последующей их казнью.
Нечто очень важное об истории цифры тринадцать в советское время поведал мне М.И. Блантер. Любимец массовой аудитории, автор популярных песен, с которыми наши фронтовики штурмовали Берлин, Матвей Исаакович был хорошо знаком с именитыми советскими маршалами и генералами. Ссылаясь на очень крупного офицера Г., входившего в охрану Сталина, Блантер пояснял: “тринадцать у евреев счастливое число. Знал это и Сталин. А поэтому приказал в январе сорок восьмого: «Соломона Михоэлса обезглавить тринадцатого! И объявить по всей стране: тринадцатого Михоэлс погиб. Евреи всегда гордились Михоэлсом. Пусть, наконец, поймут, что фортуна им изменила...”.
Не случайность: публичная казнь еврейских врачей на Красной Площади намечалась тоже в канун тринадцатого — конкретнее, 12 марта 1953 года. Генерал-охранник был свидетель такого откровения вождя: “Двенадцатого все врачи будут уже казнены, а тринадцатого будет торжественный день для евреев: пусть отпразднуют тризну по своим героям”. Итак, краткий экскурс в психиатрию и психопатологию был предпринят мною для того, чтобы убедить читателя в том, что Сталин не был душевнобольным, а потому полностью ответственен за свои поступки. Это был пахан бандитской компании соучастников с ясным умом и четкой памятью. Это был жестокий, хищный, подлый, но психически здоровый человек.
Из книги Анастаса Микояна
ТАК БЫЛО
http://militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/index.html
(Сокращено)
Аверелл Гарриман, бывший посол в СССР и крупный политический деятель США, говорил мне: «Это единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать». Шарль де Голль сказал ему, что считает его «исторической личностью международного масштаба». Премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон называл себя учеником Микояна в деле международных переговоров.
Серго Микоян «Жизнь, отданная народу»
* * *
Приехал я в Нижний Новгород в самом начале октября 1920 г. Помню, как поразило меня, приехавшего с Кавказа, отсутствие у нижегородских руководителей чувства элементарного гостеприимства. Мне не предоставили ни квартиры, ни даже комнаты в гостинице. Меня явно хотели выжить.
Напряженное положение создалось в ту осень и в военном гарнизоне. В казармах находилось свыше 50 тыс. красноармейцев. Это были войска Запасной армии республики и Приволжского военного округа. Среди них почти 17 тыс. бывшие дезертиры, вновь возвращенные в армию.
Плохо было со снабжением гарнизона: в первую очередь довольствие шло в действующую армию. В казармах невероятная теснота, скученность, не хватало матрацев, постоянные перебои с кипятком, освещением. Не все были обеспечены теплой одеждой и особенно обувью, даже лаптей не хватало. Все это вызывало среди красноармейцев сильное недовольство. А командование во главе с начальником гарнизона губвоенкомом Ительсоном, не считаясь ни с чем, внедряло солдатскую муштру, систематически проводило длительные и утомительные учения на холоде, не сообразуясь с физическими возможностями бойцов.
В казармах появились рукописные прокламации против большевистских Советов.
В этих сложных условиях Городской райком партии по своей инициативе решил провести районную беспартийную конференцию. Этим немедленно воспользовались эсеры и меньшевики. Они выдвинули делегатами на конференцию наиболее недовольных, предварительно подготовив их.
Первой на голосование шла резолюция, предложенная Горрайкомом. Она не прошла. После этого президиум поставил на голосование следующую резолюцию: «Заслушав доклад о текущем моменте, районная беспартийная конференция постановляет: принимая во внимание положение страны, требовать прекращения войны и роспуска армии, а борьбу с врагами вести словами, а не оружием».
Тогда я внес предложение временно арестовать губвоенкома и начальника политотдела, что ЧК и было сделано. Принимая такое крайнее решение, мы, конечно, хорошо понимали, что рискуем попасть под трибунал. Но мы решили, что это лучше, чем бездействовать в такой опасной обстановке.
Уже много позже узнали мы о любопытном факте. Оказывается, за несколько дней до тревожных событий в нашем гарнизоне некоторые белогвардейские газеты, выходившие за рубежом, уже сообщали о военном мятеже в Нижнем Новгороде и о создании там эсеровского правительства.
По существу, события, происходившие осенью 1920 г. в Нижнем, отражали настроения, уже тогда назревавшие в ряде районов и вылившиеся затем в кронштадтский мятеж, который начался под лозунгом — «Советы без большевиков!».
Нарастание таких настроений своевременно не учли партийные организации ни в Нижнем Новгороде, ни в Кронштадте. Но в Нижнем они начались не с организованного мятежа, а с выражения резкого недовольства, с которым нам удалось справиться мирным путем. В Кронштадте же эти настроения, вовремя недооцененные местной партийной организацией, вылились в открытый контрреволюционный мятеж, который пришлось ликвидировать силой оружия.
* * *
В ЦК мне сказали, что меня хочет видеть Сталин и что мне следует пойти к нему на квартиру в Кремль. Принял он меня приветливо. Сказал, что вызвал и беседует со мной по поручению Ленина. Речь идет о работе по подготовке к очередному XI съезду партии. … Главная опасность может идти от Троцкого и его сторонников. Пока они ведут себя тихо. Но от Троцкого можно всего ожидать. До съезда остается еще два месяца. … И если в таких условиях в ЦК будет избрано относительно много бывших троцкистов, то это представит опасность для дальнейшей работы ЦК. Потом Троцкий сможет всячески затруднять работу ЦК. «Поэтому, — сказал Сталин, — мы озабочены тем, какие делегаты приедут на предстоящий партийный съезд и много ли среди них будет троцкистов. В этом отношении нас беспокоит Сибирь. … Вот почему, — сказал он в заключение, — Ленин поручил мне вызвать вас, рассказать об этой обстановке, и если вы разделяете такой взгляд на положение дел в партии, то попросить вас съездить в Ново-Николаевск (ныне Новосибирск. — А.М.) к Лашевичу, чтобы передать ему от имени Ленина все, что я вам здесь сказал».
Кроме того, он сказал, что ехать в Сибирь мне следует как бы по личным, семейным делам, и особо предупредил, что обо всем, сказанном им, следует передать только лично Лашевичу.
Я находился под хорошим впечатлением от этой встречи со Сталиным. Спокойный, доброжелательный тон беседы, то, что провести ее со мной Ленин поручил Сталину, а не кому-либо из секретарей ЦК (в то время Сталин не был еще секретарем ЦК), особенно расположило меня к нему.
Внимательно выслушав меня, он (Лашевич) очень обрадованно сказал: «Хорошо, что вы приехали. Мы, как провинциалы, ничего подобного даже не предполагали, и наверняка немало бывших троцкистов было бы у нас избрано на съезд. Но теперь мы это учтем. Передайте в Москве, чтобы Ленин не беспокоился за Сибирь».
По окончании XI съезда партии у меня состоялась беседа со Сталиным по его инициативе. Он сказал, что каждому руководителю и мне в данном случае необходимо подготовить такого работника, который мог бы при необходимости нас заменить. (В ходе этой встречи мы со Сталиным перешли на «ты».)
* * *
Через месяц во время майской партийной конференции состоялась другая моя встреча со Сталиным, также по его инициативе, но теперь уже о моей новой работе.
Я возражал против предложенного поста секретаря Юго-Восточного бюро ЦК ВКП (б). Это очень большая и ответственная работа, к которой я считал себя не подготовленным. Я заявил, что не хочу ехать на эту работу еще и по другой причине: «В состав Югвостбюро входит Ворошилов, командующий военным округом. У него уже сложилось, наверное, по всем местным вопросам свое мнение, и по многим вопросам, естественно, у него будет своя позиция. … Я его уважаю и не хотел бы вступать с ним в конфликты. А приспосабливаться я не могу».
Сталин стал успокаивать меня, что ничего этого не случится: «Можешь действовать самостоятельно и не опасаться». Он хорошо знает Ворошилова как толкового, умелого товарища. Ворошилов не будет мешать, а наоборот будет помогать. К тому же он лично поговорит с ним об этом. Вообще Сталин умел уговаривать.
К концу беседы Сталин обратил внимание на то, что я крайне исхудал и у меня болезненный вид. Это было, конечно, результатом жизни на тогдашнем полуголодном пайке и начавшегося туберкулезного процесса в легких, но я Сталину сказал лишь о том, что за месяц до этого я около двух недель лежал в постели с воспалением легких с высокой температурой.
Он предложил использовать период до перехода на новое место работы и, сдав дела в Нижнем Угланову, поехать на месяц в дом отдыха ЦК на берегу Балтийского моря недалеко от Риги. «Там хорошее питание и спокойная, размеренная жизнь, там можно быстро подлечиться».
В ту пору дом отдыха принадлежал консульству РСФСР в буржуазной Латвии, с которой у нас установились тогда нормальные дипломатические и торговые отношения.
* * *
В самых первых числах августа 1922 г. я выехал в Москву для участия в работе XII Всероссийской партийной конференции. … В первый же день работы конференции, 4 августа 1922 г., делегатов проинформировали, что, по заключению авторитетнейших врачей, как русских, так и иностранных, здоровье и силы Владимира Ильича восстанавливаются.Во время конференции у меня, да и у ряда других делегатов, возникло недоумение, почему Сталин, в ту пору уже Генеральный секретарь ЦК партии, держался на этой конференции так подчеркнуто скромно. Кроме краткого внеочередного выступления — рассказа о посещении Ленина в связи с нашим приветствием, — он не сделал на конференции ни одного доклада, не выступил ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Это не могло не броситься в глаза.
Зато Зиновьев держался на конференции чрезмерно активно, изображая из себя в отсутствие Ленина как бы руководителя партии.
* * *
Несколько подробнее мне хотелось бы рассказать о моем младшем брате Артеме. … Артем был моложе меня на десять лет. … Мы решили, что он должен окончить школу ФЗУ и идти работать на завод. Он так и сделал.
Артем был волевым, целеустремленным и вместе с тем скромным человеком. Желая как можно скорее начать самостоятельную жизнь, он через два года уехал в Москву, поступил токарем на завод «Динамо», а заодно, желая учиться дальше, стал студентом вечернего рабфака. В 1927 г. его перевели на партийную работу в Октябрьский трамвайный парк. Два года он служил в армии, а демобилизовавшись, поступил на московский завод «Компрессор».
В 1931 г. Артема направили в числе 1000 коммунистов учиться в Военно-воздушную академию имени Жуковского, которую он закончил в 1937 г. После этого и определился его дальнейший жизненный путь инженера-конструктора: проработав некоторое время военпредом и начальником конструкторского бюро на одном из авиазаводов, он стал с 1940 г. главным конструктором нового авиационного конструкторского бюро.
За три десятилетия под его руководством создано несколько поколений самолетов-истребителей — от поршневого МиГ-3, участвовавшего в Великой Отечественной войне, до современных сверхзвуковых скоростных реактивных самолетов-истребителей, явившихся, по общему признанию, большим вкладом в дело повышения обороноспособности нашей Родины.
Небольшая деталь. Артем очень рано поседел. Как-то в беседе с ним я сказал: «Ты моложе меня, а уже седой, с чем это связано?» Он ответил: «Знаешь, Анастас, работа у меня очень нервная. Часто сталкиваешься с неожиданностями: то одно, то другое. В нашем деле почти любая неудача связана с человеческими жизнями. Каждую такую неудачу на испытаниях самолетов, а тем более катастрофу воспринимаешь как личную трагедию. Вот откуда у меня седые волосы».
Да, это было так. Наверное, это и подорвало его сердце. Он умер 66 лет (в декабре 1970 г.), в расцвете творческих сил.
У нас с Ашхен пятеро сыновей, которых мы старались воспитать строго, чтобы они были скромными и честными. Ввиду моей перегруженности работой воспитанием детей фактически целиком занималась (и очень хорошо!) одна она. Война застала старшего — Степана курсантом военно-летного училища, остальных — учениками средней школы. До наступления призывного возраста трое из них ушли в армию добровольцами. Таким образом, четверо моих сыновей оказались в авиации. В этом кроме юношеского задора сказалось и влияние моего брата, авиаконструктора.
Второй наш сын, Владимир, летчик-истребитель, погиб в сентябре 1942 г. в воздушном бою под Сталинградом. Ему было 18 лет. Старший сын уже 33-й год продолжает летать на военных самолетах, из них более 20 лет летчиком-испытателем. Имеет звание генерал-лейтенанта авиации, почетное звание заслуженного летчика-испытателя. Ему присвоено звание Героя Советского Союза в 1975 г. Третий сын, Алексей, — генерал-лейтенант авиации, продолжает летать на боевых самолетах, занимая командную должность. Имеет почетное звание заслуженного военного летчика. Четвертый сын, Вано, в конце войны стал авиационным техником, а уйдя в запас, перешел на авиаконструкторскую работу. Сейчас он заместитель главного конструктора фирмы «МиГ». Младший, Серго, участия в войне принимать не мог по возрасту. Он кандидат исторических наук, работает главным редактором журнала «Латинская Америка» Академии наук СССР.
* * *
Я хорошо помню некоторые обстоятельства, связанные с операцией и смертью Фрунзе. В двадцатых числах октября 1925 г. я приехал по делам в Москву и, зайдя на квартиру Сталина, узнал от него, что Фрунзе предстоит операция. Сталин был явно обеспокоен, и это чувство передалось мне. «А может быть, лучше избежать этой операции?» — спросил я. На это Сталин ответил, что он тоже не уверен в необходимости операции, но на ней настаивает сам Фрунзе, а лечащий его виднейший хирург страны Розанов считает операцию «не из опасных».
Однако все сложилось трагично. 31 октября 1925 г. Фрунзе не стало.
Лева Шаумян, а также А.В. Снегов говорили мне, что сам Фрунзе в письмах жене возражал против операции, писал, что ему вообще стало гораздо лучше и он не видит необходимости предпринимать что-то радикальное, не понимает, почему врачи твердят об операции. Это меня поразило, так как Сталин сказал мне, что сам Фрунзе настаивает на операции. Снегов тогда сказал мне, что Сталин разыграл с нами спектакль «в своем духе», как он выразился. Розанова он мог и не вовлекать, достаточно было ГПУ «обработать» анестезиолога. Готовясь к большим потрясениям в ходе своей борьбы за власть, говорил А.В.Снегов, Сталин хотел иметь Красную Армию под надежным командованием верного ему человека, а не такого независимого и авторитетного политического деятеля, каким был Фрунзе. После смерти последнего наркомом обороны стал Ворошилов, именно такой верный и в общем-то простодушный человек, вполне подходящий для Сталина.
* * *
Несколько позже, уже в 1928 г., меня поразил такой разговор. Не только меня, но и Орджоникидзе и Кирова. Мы были вечером на даче у Сталина в Зубалово, ужинали. Ночью возвращались обратно в город. Машина была открытая. Сталин сидел рядом с шофером, а мы с Серго и Кировым сзади на одном сиденье.
Вдруг ни с того ни с сего в присутствии шофера Сталин говорит: «Вот вы сейчас высоко цените Рыкова, Томского, Бухарина, считаете их чуть ли не незаменимыми людьми. А вскоре вместо них поставим вас, и вы лучше будете работать».
Мы ходили с Серго и Кировым и думали: что со Сталиным происходит, чего он хочет? Такое сужение руководства, почему он предполагает это сделать, зачем? Эти люди хотят со Сталиным работать. К тому же не было серьезных принципиальных разногласий. Одно дело — разногласия с Троцким. Мы жалели зараженные троцкизмом кадры, однако политическая необходимость их отстранения от руководства была ясна. Но Рыкова, Томского, Бухарина, и даже Зиновьева и Каменева мы честно не хотели отсекать.
* * *
В начале осени 1930 г. Сталин предложил мне взять заместителем по внешней торговле Розенгольца, который в это время работал в РКИ у Орджоникидзе. … Оказалось потом, что Сталин это сделал с личным прицелом. …
А дело было в следующем. Будучи наркомом внутренней и внешней торговли СССР, вопросы внешней торговли я решал самостоятельно в пределах своей компетенции. При этом я не во всех вопросах спрашивал мнение Сталина и правительства. У нас тогда, как у наркомов, права были большие, и мы могли многие вопросы решать сами.
Так было в отношениях с Председателем ВСНХ Куйбышевым. … Видимо, Сталин хотел, чтобы такого рода вопросы решались через него. Он хотел вникнуть в эти дела глубже, но при уже сложившейся практике ему это не удавалось. А он знал, что если поручить дело торговли Розенгольцу, то все вопросы экспорта и импорта будут докладываться ему и он будет их решать. Сталин знал Розенгольца по Гражданской войне как деспотичного человека, аккуратиста и хорошо к нему относился, был уверен, что тот будет все ему докладывать и выполнять все его указания.
22 ноября 1930 г. Наркомат внутренней и внешней торговли СССР был расформирован и Розенгольц стал наркомом внешней торговли.
* * *
Шел 1936 год. Сталин вдруг, совершенно неожиданно говорит: «А почему бы тебе не поехать в Америку вместо Крыма? Заодно это будет неплохим отдыхом, но главное — надо изучить опыт США в области пищевой промышленности. Лучшее из того, что ты там увидишь, потом перенести к нам, в Советский Союз!»
Познакомившись с составом группы, Сталин сказал, что мне следовало бы взять с собой еще инженера Главстроя НКПП Бургмана, свободно владеющего английским языком и побывавшего уже два раза в США в составе экономической делегации по делам строительства. Кавказский немец Василий Бургман был хорошо лично знаком Сталину, ибо приходился племянником Каролине Васильевне Тиль, пожилой женщине, давно помогавшей семье Сталина в ведении домашних дел.
Тот факт, что я застал на посту посла СССР в США именно Трояновского, был для меня особенно радостен и приятен. Я был моложе его на 14 лет. Мы работали с ним бок о бок около года в Москве, когда я был наркомом внутренней и внешней торговли, а он руководил Госторгом РСФСР — крупнейшей внешнеторговой организацией по экспорту и импорту товаров. … Трояновский по своей хватке ничуть не уступал американским бизнесменам. Поэтому наши деловые встречи были для меня полезны. Я уважал Трояновского за его знания, умение руководить.
Большое впечатление произвела на нас отличная организация управления предприятиями, четкая слаженность производственных операций, а также минимальное количество работающих, и в первую очередь — служащих и администраторов. Штат управляющих и конторского персонала по своей численности был раза в три меньше, чем на подобных же предприятиях у нас.
За два дня до отъезда на родину, 12 октября, по настоянию Трояновского я отправился в Вашингтон, где посетил тогдашнего государственного секретаря Корделла Хэлла. Президента Рузвельта в это время в Вашингтоне не было. Корделл Хэлл был государственным секретарем с 1933 по 1944 г. Хэлл заявил, что его беспокоит нынешнее международное положение, поскольку в центре Европы одно государство, а на Тихом океане — другое стремятся к экономическому и политическому господству в мире. Если Советский Союз и США, сказал он далее, будут занимать изоляционистские позиции, то это приведет к тому, что стремление указанных государств к мировому господству увенчается успехом и вызовет отрицательные последствия для наших двух стран. «Над этим следует задуматься», — резюмировал он. Пребывание в США оказалось для меня университетским курсом в области пищевой промышленности и американской экономики. Не имея законченного высшего образования, я вернулся оттуда как будто обогащенным, со значительными знаниями и с планом перенесения в нашу страну опыта развитой капиталистической страны.
* * *
1 декабря 1934 г. после 9 часов вечера вызвали меня на экстренное заседание Политбюро. В кабинете у Сталина были Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Каганович. Сталин объявил, что убит Киров. Он тут же, до какого-либо расследования, сказал, что зиновьевцы, потерпев поражение в открытой борьбе, перешли к террору против партии. Он предложил, чтобы Молотов и Ворошилов с ним немедленно выехали в Ленинград для проведения расследования этого дела, «докопаться до корней и пресечь террор со стороны зиновьевцев, нагнать на них страху, приостановить готовящиеся новые террористические акты». Предложил принять чрезвычайный закон, по которому за террористические акты террористы будут беспощадно наказываться и судебные решения о расстреле будут приводиться в исполнение немедленно, без права апелляции.
Это было так неожиданно, невероятно, так нас подавило, что обсуждения никакого не было.
Ночью Сталин, Молотов и Ворошилов уехали в Ленинград. 2 декабря они приехали обратно и привезли с собой гроб с телом Кирова. На вокзале гроб поставили на артиллерийский лафет, и процессия направилась к Дому Союзов. Впереди шел Сталин, за ним другие члены Политбюро. … Из рассказа Сталина меня поразили два факта: первый — что террорист Николаев, который считался сторонником и ставленником Зиновьева, два раза до этого арестовывался органами ЧК, при нем находили оружие. Он пытался совершить покушение и был задержан охраной Зимнего дворца, где работал, но был выпущен работниками ЧК. Невероятно с точки зрения поведения ЧК. Казалось, все данные свидетельствовали о том, что готовится террористический акт. Факт ношения оружия должен был привести к аресту Николаева — ведь запрещено было носить оружие. Однако вместо проявления бдительности, вместо предотвращения убийства ЧК по существу его поощряло. Это вытекало из рассказа самого Сталина.
И второй факт — это убийство комиссара охраны Кирова, который лично его сопровождал и был после совершенного убийства арестован чекистами для допроса. Сталин послал чекистов, чтобы они доставили его к нему для допроса в Зимний дворец. Но при перевозке его на машине по дороге случилась автомобильная авария, машина ударилась обо что-то. Убитым оказался только комиссар из охраны Кирова. Причем странно было, что в машине был убит только он один, больше никто не пострадал.
Сталин возмущался: как это могло случиться? Все это было очень подозрительно. Но никаких выводов Сталин из этого не делал. Дальше расследовать, распутывать весь узел он не предлагал, а лишь возмущался.
Я тогда сказал Сталину: как же можно такое терпеть? Ведь кто-то должен отвечать за это? Разве председатель ОГПУ не отвечает за охрану членов Политбюро? Он должен быть привлечен к ответственности. Но Сталин не поддержал меня. Более того, он взял под защиту Ягоду, сказав, что из Москвы трудно за все это отвечать, что поручено разобраться в этом деле работникам ленинградского ЧК и виновные будут найдены и наказаны.
В моей памяти осталось совершенно непонятным поведение Сталина во всем этом: его отношение к Ягоде, нежелание расследовать факты. В другом случае он расстрелял бы сотни людей, в том числе чекистов, как в центре, так и на местах, многих, может быть, и невинных, но навел бы порядок. Когда же необходимость серьезных мер вытекала из таких поразительных обстоятельств гибели Кирова, он этого не сделал.
Потом мы с Серго обменивались мнениями по этому вопросу, удивлялись, поражались, не могли предположить и понять.
* * *
После убийства Кирова началось уничтожение руководящих работников. Сначала в Наркомтяжмаше под видом вредительства начали арестовывать отдельных директоров предприятий, которых хорошо знал Орджоникидзе и которым он доверял, затем арестовали нескольких директоров сахарных заводов.
Орджоникидзе протестовал против ареста своих директоров, доказывал, что у них могут быть ошибки, просчеты, но не вредительство. Я также жаловался Сталину. Я ему говорил: «Ты сам правильный лозунг выдвинул, что кадры решают все, а директора заводов — это важная часть кадров в промышленности!»
Но спорить со Сталиным в этой части было трудно. Он выслушивал наши возражения, а потом предъявлял показания арестованных, в которых они признавались во вредительстве.
Здесь мне хотелось бы коснуться неблаговидной роли, которую играл Каганович. Мы с Орджоникидзе были крайне недовольны Кагановичем, когда он в начале 30-х гг., будучи секретарем МК и секретарем ЦК, в отличие от предыдущей товарищеской практики, стал возвеличивать Сталина по всякому поводу и без повода на собраниях Московской организации, восхвалять его. Сталину это нравилось, хотя в узком кругу он однажды выругал Кагановича: «Что это такое, почему меня восхваляете одного, как будто один человек все дела решает? Это эсеровщина, эсеры выпячивают роль вождей». … Как бы то ни было, восхваление Сталина постепенно стало лексиконом для всей партии. И если не хвалишь Сталина сверх меры, а то и возражаешь ему, воспринималось это так, что ты против Сталина, и значит, против партии в целом.
Это обстоятельство создало дополнительную трудность в наших попытках остановить Сталина, когда он начал необоснованные репрессии, использовав убийство Кирова как предлог для этих репрессий.
Как-то в 1937 г. я был у Сталина. Он достает документ ОГПУ и говорит, что мой заместитель по Наркомпищепрому Беленький занимается в наркомате вредительством и что его надо арестовать. Много лет с ним работал и мог за него поручиться. Поэтому, не глядя в документ, сказал: «Ты же сам его знаешь!»
Сталин прореагировал на это очень нервно. Стал доказывать, что Беленький подхалим, лебезил передо мной, надувал меня, а я слепой в вопросах кадров, что на него есть показания.
Резкая и острая полемика была у меня со Сталиным. Он грубил, говорил мне, что я не понимаю ничего в кадрах, вредителей терплю, что подхалимов люблю, защищаю их. Я ничего не мог сделать в отношении Беленького, и его тогда все-таки арестовали.
Прошла неделя, вызывает меня Сталин, дает протокол допроса Беленького. «Вот смотри, — говорит, — признался во вредительстве. Ручался за него, вот читай!» Читаю и узнаю о невероятных вещах. Говорю Сталину: «Это невероятные вещи, таких вредительств даже и нет!» Сталин говорит: «Он же пишет, сам признался!»
Какой это удар был по мне! Черт его знает, думал я, что за человек этот Беленький, но мне все же не верилось. «Я тебе дал факты, — говорил Сталин, вот смотри, ты же спорил, защищал его».
Такая же история повторилась в 1937 г. при аресте Одинцова — начальника Главсахара. После него был арестован Гроссман — начальник жировой промышленности, уважаемый в наркомате человек. Та же участь постигла моего заместителя Яглома.
Оглядываясь на прошлое, сейчас можно констатировать, что тогда обычные недостатки, аварии (а как им не быть, когда было плохое оборудование, не хватало квалифицированных кадров) объявлялись вредительством, в то время как сознательного вредительства, может быть, за редчайшим исключением, по существу и не было.
А.А.Сольц — старый большевик, член РСДРП с 1898 г. Его справедливо называли совестью партии. Будучи членом Президиума ЦКК партии и членом Верховного Суда СССР, а затем занимая ответственные посты в Прокуратуре СССР, доказывал, что вредительства нет.
Только в 1961 г. я узнал истину о его судьбе. О ней рассказала Шатуновская, работавшая в КПК. Сольц на Хамовнической партийной конференции выступил с разоблачением Вышинского, говорил, что тот фабрикует дела, что вредительства в партии нет. Причем в своем выступлении Сольц о Сталине и ЦК не говорил. Конференция встретила его выступление в штыки, его обвинили в клеветничестве и прочем. После этого его под предлогом сумасшествия увезли в тюрьму, куда помещались такие «сумасшедшие» и где люди скоро действительно сходили с ума или умирали. Против Сольца решили не искать обвинения — вот его как сумасшедшего и изолировали: конечно это было сделано с ведома Сталина. Там он и умер в 1945 г.
При проведении репрессий Сталин помимо карательных органов опирался и на некоторых своих сподвижников, в частности на Маленкова. Маленков образованный инженер-электрик, культурный, сообразительный, умеющий иметь дело с людьми. Он никогда не грубил, вел себя скромно. Маленков очень боялся Сталина и, как говорится, готов был разбиться в лепешку, чтобы неукоснительно выполнить любые его указания. Это свойство Маленкова было использовано Сталиным в период репрессий, когда он посылал Маленкова на места.
Когда в 1931 г. руководство Компартией Грузии перешло в руки Берия — не без прямого содействия Сталина, так как Берия сам не смог бы взобраться на такую партийную высоту, — началась травля Орджоникидзе.
Младший брат Серго — Пачулия Орджоникидзе когда-то был выдвинут на должность начальника Закавказской железной дороги. Он работал как будто неплохо. Но дело не в этом. Он был горячий, невыдержанный, что думал — то и говорил. Он был недоволен многими действиями Берия и, не скрывая этого, открыто говорил на партийных собраниях. Берия не мог этого вытерпеть. И вот вдруг Пачулия снимают и арестовывают.
Я знаю, — говорил Серго, — что это не могли сделать без личного согласия Сталина. Но Сталин дал согласие на это, даже не позвонив мне, а ведь мы с ним большие друзья. Он даже не информировал меня, что собираются арестовать моего брата. Я узнал это со стороны».
Через некоторое время стало известно, что его брат был расстрелян в 1936 г. Конечно, Серго знал, что и расстрел мог произойти только с согласия Сталина.
Помню, в беседах со мной Орджоникидзе говорил, что не понимает, что происходит. Товарищи докладывают, что никакого вредительства нет. Арестовываются крупнейшие хозяйственные работники, которых он хорошо знает. Как же он будет докладывать на Пленуме ЦК о вредительстве, когда у него собраны совершенно противоположные материалы?
За 3-4 дня до самоубийства мы с ним вдвоем ходили вокруг Кремля ночью перед сном и разговаривали. Мы не понимали, что со Сталиным происходит, как можно честных людей под флагом вредительства сажать в тюрьму и расстреливать. Серго сказал, что у него нет сил дальше так работать. «Сталин плохое дело начал. Я всегда был близким другом Сталину, доверял ему, и он мне доверял. А теперь не могу с ним работать, я покончу с собой».
За день до открытия Пленума ЦК, 18 февраля 1937 г., Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством...
* * *
Как-то осенью, в 1938 г., часов в 9 вечера, когда я находился в Совнаркоме, позвонил Поскребышев и сказал, что Сталин с Молотовым находятся в ложе Большого театра и Сталин просит меня зайти туда. Шла опера «Иван Сусанин». Сталин очень любил эту оперу, и мы с ним раз восемь или девять были на ней. Сначала мне нравилось, а потом надоело.
В антракте Сталин мне говорит: «Ты знаешь, что после ареста Розенгольца исполнение обязанностей наркома было возложено на Судьина, который до этого занимал должность зампредседателя Госконтроля. Оказалось, что и он замешан во вредительстве. Тогда мы решили взять человека со стороны и сделали и.о. наркома Чвялева, который до этого работал директором Института внешней торговли в Ленинграде. И очень удивлены — Чвялев, которого мы взяли, казалось, умный, честный человек, молодой, — он также участвует во вредительской антисоветской группировке». (Я не понимал, почему он меня об этом информирует.) Сталин продолжал: «Чвялева нельзя терпеть во главе наркомата. Меркалов — его заместитель — тоже подозрительный человек. Возможно, он также с ними вместе. Ты не мог бы взять на себя исполнение обязанностей наркома внешней торговли с исполнением обязанностей зам. Председателя Совнаркома? Резервы исчерпаны у нас, а ты и дело, и людей знаешь, и дело поправишь быстро. … Только строго прими дела от Чвялева, используй приемку дела для необходимой проверки состояния дел в наркомате, все недостатки выяви и какие люди вредят, чтобы от них избавиться. А потом, после сдачи дел, мы арестуем Чвялева, а через некоторое время, возможно, и Меркалова».
Подумав, я сказал, что, если ЦК считает необходимым, я не возражаю, но прошу … прекратить аресты работников Внешторга. Я знаю со слов работников наркомата, что там арестовано много не только руководителей, но и средних работников. Многими овладел страх. Люди боятся проявить инициативу, активность, чтобы это не сочли за вредительство. В наркомате господствует паника, перестраховка. В таких условиях мне трудно будет заставить людей работать активно, в интересах государства.
Сталин сказал: «Ты, пожалуй, прав. Чтобы создать хорошую атмосферу для твоей работы, дадим указание НКВД прекратить всякие аресты работников Внешторга».
Мне удалось в течение менее чем года внушить работникам Внешторга уверенность в своем положении, в том, что они будут защищены, что критика не будет вызывать репрессий. Наркомат начал вставать на ноги.
Надо сказать, что Сталин сдержал свое слово и в течение десяти лет, до 1948-1949 гг., арестов в Наркомате внешней торговли не было.
* * *
В сентябре 1939 г. по предложению Сталина было принято решение освободить Молотова от обязанностей председателя Экономсовета.
Назначения на пост председателя Экономсовета я не только не ожидал, но и опасался, поскольку Сталин стал неустойчив в отношении к людям, часто их переставлял, если не уничтожал. Из первого состава Экономсовета были ликвидированы: Чубарь — кандидат в члены Политбюро, Межлаук — зам. Председателя Совнаркома и председатель Госплана, Косиор — член Политбюро. Кроме того, я боялся, что эта работа будет мне не по силам, так как я недостаточно знал промышленность.
Следом за окончанием советско-финской войны Сталин предлагает провести новые изменения в руководстве экономикой страны. 28 марта 1940 г. принимается решение «О перестройке работы Экономсовета»: Молотов снова становится председателем Экономсовета, а я — на этот раз официально — становлюсь его замом.
Поразительно, но всего через 37 дней (21 марта 1941 г.) после такого «укрепления» Экономсовета он упраздняется вовсе и появляется на свет новое учреждение — Бюро Совнаркома, «облеченное всеми правами Совнаркома», в следующем составе: председатель — Молотов, первый заместитель — Вознесенский, заместители — Микоян, Булганин, Берия, Каганович, Андреев.
Так был ликвидирован специальный орган, занимавшийся экономическим руководством страны, который существовал с небольшим перерывом со времен Ленина. Через три месяца после этого Гитлер напал на Советский Союз.
Потребовались тяжелые уроки поражений, чтобы создать устойчивое и компетентное руководство страной в условиях военного времени.
* * *
В марте 1921 г. я был делегатом на Х съезде партии. После одного из заседаний, когда приближалось обсуждение вопроса о выборах ЦК, меня как представителя Нижегородской организации, стоящего на ленинской платформе, вдруг пригласили на совещание в Кремль.
Когда Ленин предложил собрать сторонников платформы втайне от других, чтобы наметить кандидатуры для выборов в ЦК, Сталин, который все время молчал, подал реплику: «Товарищ Ленин, это же будет заседание фракции, как это можно допустить?» Ленин ответил: «В это время, пока мы здесь сидим, троцкисты второй раз собираются. У них уже готов список кандидатов в ЦК. Они ведут свою работу. Нельзя с этим не считаться. Надо подготовиться, чтобы не дать им возможности победить, а то они могут провести много своих людей в ЦК». Действительно, тогда на съезде авторитетных деятелей было сравнительно мало, и те в большинстве были на стороне Троцкого. На стороне же Ленина были организаторы из рабочих.
* * *
Часто я у него обедал дома и на даче один или до середины 30-х гг. с женой. Между прочим, моя жена безоговорочно верила Сталину, уважала его и считала, что все беззакония, которые творились, делаются без его ведома.
Раньше обеды у Сталина были как у самого простого служащего: обычно из двух блюд или из трех — суп на первое, на второе мясо или рыба и компот на третье. Иногда на закуску — селедка. Подавалось изредка легкое грузинское вино.
Но после смерти жены, а особенно в последние годы он очень изменился, стал больше пить, и обеды стали более обильными, состоявшими из многих блюд. Сидели за столом по 3-4 часа, а раньше больше получаса никогда не тратили.
Сталин заставлял нас пить много, видимо, для того чтобы наши языки развязались, чтобы не могли мы контролировать, о чем надо говорить, о чем не надо, а он будет потом знать, кто что думает. Бывало, часа два посидим и уже хочется разойтись. Но он заводил беседу, задавал вопросы на деловые темы. Обычно все проходило нормально, но иногда он, не сдерживая себя, горячился, грубил, нападал на тех или других товарищей. Это оставляло неприятный осадок. Но такое было не часто.
Я наблюдал за Сталиным, сколько он ел. Он ел минимум в два раза больше меня. А я считал, что объедаюсь.
* * *
Потом, особенно после войны, Сталин стал раздражительным. Я же по старой привычке рассказывал ему все, что знал, что происходит в стране, что народ волнует. Говорил, что нет мяса, нет некоторых товаров и о других недостатках. Сталин стал нервничать, сердиться — почему нет? Раз он очень раздраженно стал меня допытывать, почему нет продуктов. Я ответил, как думал. Это было время, когда Маленков в Совмине ведал сельским хозяйством. Я сказал Сталину: «Пусть Маленков скажет, почему отсутствуют необходимые продукты, ему легче это сделать». Я правду говорил. Сталин посмотрел на Маленкова. Тот молчал, делая вид, что со мной спорить нечего. Сталин, видимо, понял, не стал допрашивать Маленкова, ибо тот все равно не мог ничего объяснить.
И до этого, и в данном случае Маленков или Берия наступали мне на ногу под столом, давая понять, чтобы я перестал такие откровенные вещи говорить. Я смотрел на них удивленно. Потом, когда спорил с ними, доказывая, что я прав, они мне говорили: «А какая польза от этого? Это только раздражает Сталина. Он начинает нападать то на одного, то на другого. Ему надо говорить все то, что понравится, чтобы создать атмосферу благополучия, не портить обстановки за обедом».
* * *
В 1934 г. он настолько привязался ко мне, что по вечерам мы сидели долго, говорили, он мне советы давал. Однажды предложил остаться ночевать у него на даче. Я, конечно, остался. Звонил жене, что остаюсь ночевать у Сталина. … И все же в следующий раз, когда Сталин стал оставлять меня ночевать, я сказал, что моя жена волнуется, когда меня нет дома. Он не настаивал.
После меня у него часто ночевал Сванидзе, брат его первой жены. Видимо, ему было скучно совсем одному. Позже, когда Сванидзе не стало, у Сталина никто ночевать уже не оставался, и он не предлагал этого никому.
Он запирался в спальне один изнутри. Видимо, у него появилась мания преследования на фоне его расправ с людьми. И страх...
Надо сказать, что, работая на Кавказе, я со Сванидзе не встречался и потому не был знаком с его прошлой партийной деятельностью. Его партийная кличка «Алеша» так и осталась за ним, хотя звали его Александром.
Позже, работая в Москве, я узнал, что Сванидзе давно состоит в рядах партии, что он является братом первой жены Сталина и что они со Сталиным были старыми партийными друзьями. У них были хорошие товарищеские и, я бы даже сказал, братские отношения. … Потом Сталин предложил мне взять Алешу Сванидзе на работу и поставить во главе Акционерного общества по экспорту марганца Наркомата внешней торговли. Я с удовольствием это сделал, потому что Сванидзе был подготовленным человеком, имел высшее образование, хотя и по гуманитарным наукам, был знаком с экономическими проблемами и с банковским делом, да еще хорошо знал немецкий и французский языки. Человек он был солидный, спокойный, неторопливый, обходительный. Любил подумать над вопросом всесторонне, посоветоваться. Человек твердых взглядов, Алеша был всегда выдержан, не любил задевать чужого самолюбия, но и не терпел, когда задевали его «дворянское» самолюбие: он был из дворян.
Потом Сванидзе был поставлен во главе Внешторгбанка, назначен заместителем председателя Госбанка. Дела вел очень большие. Он хорошо исполнял свои обязанности, знал внутреннюю политику, понимал ее. Часто вместе со мной бывал у Сталина, принимал участие в обсуждении вопросов внутренней политики, вопросов кредитования, финансирования. Сталин сам старался привлекать его к рассмотрению таких вопросов.
Хотя он был не особенно разговорчивым, из наших бесед о Кавказе остались в памяти высказывания Сванидзе о Берия, острая критика его поведения, его политики и т.д. Свою критику Берия Алеша не скрывал и от Сталина, который, поддерживая Берия, не одергивал и Сванидзе.
Берия, конечно, знал, что Сванидзе бывает на квартире у Сталина, приходит к нему запросто, а иногда и ночует там. Понимал, что из этого ничего хорошего для него не будет. Главное же было то, что Берия стремился лишить Сталина всяких источников информации с Кавказа, кроме самого себя. Он добился того, что очень многие товарищи, которые могли бы быть источниками такой информации, были ликвидированы.
Это случилось в декабре 1937 г., когда Берия был уже в Москве — сначала как заместитель Ежова, а потом сам возглавил НКВД. В этот период я не так часто встречался со Сталиным, как раньше. Однажды, возвратившись с работы около двух часов ночи, я узнал от работника охраны, что только что арестовали и увезли Сванидзе и его жену.
Я был поражен, ходил по комнате, мучительно думал и не понимал, что происходит. Если в отношении других Сталина могли ввести в заблуждение работники НКВД, то в отношении Сванидзе это было невозможно, потому что Сталин знал его почти полвека со всех точек зрения, лично знал, дружил с ним, знал его политические взгляды. Они дружили до последних дней, и я не слыхал, чтобы они поссорились, чтобы Сталин был недоволен им или выражал ему недоверие. Более того, Сванидзе был в последние годы единственным из тех, которые близко дружили со Сталиным, пользовались его расположением и ночевали у него дома. Все это происходило потому, что Сталин этого хотел, что Сталин ему доверял! Как же могли его арестовать?
Через несколько дней я ужинал у Сталина. Были и другие товарищи. Сталин понимал, что я озабочен тем, что случилось с Алешей, и, не дожидаясь вопроса с моей стороны, спросил: «Ты слышал, что мы арестовали Сванидзе?» Я ответил: «Да, но не знаю, как это могло случиться». — «Он немецкий шпион», — сказал Сталин. «Как это может быть? — удивился я. — Если бы он был шпионом, то вредил бы. Фактов же о его вредительстве нет. Какая польза от такого шпиона, который ничего не делает?» — «Верно, он ничего, видимо, плохого не делает, — ответил Сталин, — потому что он шпион особого рода, особого вида: он имел задание не вредить, а лишь сообщать немцам информацию, которую он получает в Наркомате внешней торговли, информировать о том, что происходит в руководстве партии и государства».
«Как это могло случиться?» — спросил я. «Он был интернирован в первую империалистическую войну и был завербован немцами в лагере. С того времени он и служил источником информации для немцев, — ответил Сталин. — В его функции не входил террор, только информация. Вот теперь это вскрылось, и мы его арестовали».
В 1941 г., уже во время войны, я и еще несколько членов Политбюро были у Сталина. Берия там не было. Сталин знал, что у нас со Сванидзе были хорошие отношения, потому, обратившись ко мне, сказал: «Ты смотри, какой Алеша!» — «А что такое?» — спрашиваю я с надеждой (я думал, что Алеши уже нет в живых). «Его приговорили к расстрелу, — продолжал Сталин. — Я дал указание Меркулову, чтобы он перед расстрелом ему сказал, что если попросит прощения у ЦК, то будет помилован. А Сванидзе ответил: «У меня нет никаких грехов перед ЦК партии, я не могу просить прощения». И, конечно, приговор привели в исполнение. Смотри, какой Сванидзе: не захотел просить прощения! Вот какая гордость дворянская», — закончил Сталин. «Когда это было?» — спросил я. «Недавно его расстреляли», — ответил Сталин.
Я поразился: более трех лет Сванидзе держали в тюрьме! Видимо, он ни в чем не признался, дело затянулось и недавно только, во время войны(!), его расстреляли. Это было поразительно. «У Сванидзе чувство обиды большое было, — ответил я. — Он не мог вынести позора и просить прощения, если чувствовал, что не виноват перед ЦК партии». Сталин ничего не сказал.
Большая доля ответственности в этом деле ложится на Берия, ибо он считал Сванидзе своим личным врагом и старался обмануть Сталина, пользуясь его невероятной мнительностью. И это ему удалось.
А в следующем, 1942 г. была расстреляна и жена Алеши — Мария Анисимовна. Сгинули в безвестность и обе сестры первой жены Сталина — Мария и Александра. Не только Сванидзе, но и другие члены семьи Сталина, его родные не избежали репрессий, хотя они ни в чем не были виноваты.
Вообще вся семья оказалась разгромленной, причем это коснулось и родных второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой.
Ее сестра Анна Сергеевна, которая была старше Нади на пять лет, вышла замуж за бывшего секретаря Дзержинского — Реденса, хорошего человека, поляка по национальности. Реденс занимал ответственную должность в органах ЧК, бывал у Сталина, у нас дома.
У Аллилуевых было и два сына. Старший Федор был вначале активным большевиком. Но затем у него случилось легкое помешательство от особых методов «проверки преданности Советской власти», проводимых легендарным Камо, о чем я рассказывал раньше. Работать он не мог, но беспокойства людям не причинял.
Другой сын — Павел, комиссар бронетанковых войск Красной Армии, был замечательным человеком, хорошим коммунистом. Он пользовался уважением Сталина, всех нас. Прямой был человек, честный, говорил то, что думал. Но как-то совершенно неожиданно он умер в ноябре 1938 г., сразу же после возвращения из Кисловодска, где отдыхал в санатории. Говорили, подвело сердце.
Через 18 дней после странной смерти Павла был арестован Реденс и в том же году расстрелян. Я часто бывал у Сталина с женой и видел, что Сталин хорошо относился к Павлу и его жене, к семье Анны, и было удивительно, что уже после войны, в декабре 1947 г., была арестована вдова Павла и ее новый муж, в начале января 1948 г. — ее дочь от Павла, 18-летняя Кира, а через несколько дней сестра Надежды — Анна. Было совершенно непонятно, зачем Сталин это сделал.
Правда, Анна незадолго до этого опубликовала свои воспоминания, которые у Сталина вызвали раздражение.
Говорят, ее мучили тем, что заставляли подолгу стоять. Она вышла из тюрьмы после смерти Сталина не вполне нормальной. Другие женщины перенесли 5-6-летнее заключение, к счастью, без последствий.
Совершенно непонятный разгром собственной семьи! Никто не мог даже подумать, что за всеми этими арестами, ссылками кроется «политическое дело». Люди эти были преданы Сталину.
Но эти факты могут пролить свет на общее психическое состояние Сталина.
* * *
1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Всего за восемь дней до этого, 23 августа 1939 г., в Москве был подписан советско-германский договор о ненападении. Я считал тогда и считаю сейчас, что заключение этого договора было неизбежным, вынужденным, а потому правильным действием перед лицом отказа Англии и Франции от серьезных переговоров об антигитлеровской коалиции с участием СССР. Было очевидно, что целью этих двух стран было толкнуть Гитлера к «Drang nach Osten», т.е поощрить Гитлера к нападению на СССР.
В начале 1941 г. проводились переговоры по ряду политических и экономических вопросов. Так, 10 января 1941 г. между СССР и Германией был заключен Договор о советско-германской границе от реки Игарка до Балтийского моря, подписанный Молотовым и Шуленбургом. Тогда же в Риге и Каунасе велись переговоры и были подписаны соглашения о переселении в Германию немцев, проживавших в Латвии, Эстонии и Литве. Одновременно в Москве подписали Соглашение об урегулировании взаимных имущественных претензий, связанных с этим переселением. 10 января 1941 г. мной как наркомом внешней торговли и посланником МИД Германии Шнурре было подписано Советско-германское хозяйственное соглашение. В коммюнике по этому поводу указывалось, что СССР предоставляет Германии промышленное сырье, нефтяные продукты и продукты питания, в особенности зерновые; Германия поставляет СССР промышленное оборудование.
В это время к нам из самых различных источников стали поступать данные, свидетельствовавшие о том, что Гитлер готовится в военному нападению на СССР. А в октябре 1940 г. стало известно, что Берлин заключил с Финляндией договор о размещении на ее территории германских войск. 19 апреля 1941 г. на имя Сталина поступило послание Черчилля, в котором он, ссылаясь на заслуживающего доверия агента, предупреждал о предстоящем нападении Гитлера на СССР. Прочитав это послание, Сталин улыбаясь сказал: «Черчиллю выгодно, чтобы мы поскорее влезли в войну, а нам выгодно подольше быть в стороне от этой войны».
Но и наш посол в Берлине Деканозов на основе данных разведки сообщал, что Германия готовится к войне против Советского Союза — идет усиленная подготовка войск. Когда Криппс, посол Англии в СССР, передал от имени Черчилля новое предупреждение, что, по достоверным данным английской разведки, скоро начнется война между Германией и Россией, и Англия предлагает союз против Германии, Сталин утверждал, что мы не должны поддаваться на провокации Англии.
Помню, как за месяц или полтора до начала войны донесение прислал представитель нашей разведки в советском посольстве в Берлине Кобулов (младший). Этот разведчик сообщал очень подробные сведения, которые подтверждали усиленную подготовку германских войск и переброску их к нашей границе. Подобные же сведения давал представитель разведки Генштаба Военно-морского флота Михаил Воронцов. Сталин это все также отверг как подсунутую ему дезинформацию.
За несколько недель до начала войны германский посол в СССР граф Шуленбург пригласил на обед приехавшего в Москву Деканозова. В присутствии своего сотрудника Хильгера и нашего переводчика Павлова Шуленбург довел до сведения Деканозова что в ближайшее время Гитлер может напасть на СССР, и просил передать об этом Сталину. Реакция Сталина и на это крайне необычное для посла сообщение оставалась прежней.
Перелет первого заместителя Гитлера по руководству нацистской партией Гесса в Англию 10 мая 1941 г. вызвал большую тревогу у Сталина и у всех нас. Мы опасались, что Гесс договорится с англичанами и тогда немцы повернут против нас.
За два дня до начала нападения немцев (я тогда как зампред СНК ведал и морским флотом) часов в 7-8 вечера мне звонит начальник Рижского порта Лайвиньш: «Товарищ Микоян, здесь стоит около 25 немецких судов: одни под загрузкой, другие под разгрузкой. Нам стало известно, что они готовятся завтра, 21 июня, все покинуть порт, несмотря на то, что не будет закончена ни разгрузка, ни погрузка. Прошу указаний, как быть: задержать суда или выпустить?» Я сказал, что прошу подождать, нужно посоветоваться по этому вопросу. Сразу же пошел к Сталину, там были и другие члены Политбюро, рассказал о звонке начальника Рижского порта, предложив задержать немецкие суда. Сталин рассердился на меня, сказав: «Это будет провокация. Этого делать нельзя. Надо дать указание не препятствовать, пусть суда уходят». Я по ВЧ дал соответствующее указание начальнику Рижского порта. (В 1974 г. я прочитал в записках В.Бережкова — работника нашего посольства в Берлине, что перед началом войны советские суда, стоявшие в германских портах, были задержаны.)
У нас в Политбюро была большая тревога. Не может быть, считали мы, чтобы все эти сведения о подготовке войны Гитлером были фальшивые, ведь концентрация войск на нашей границе остается фактом и эта концентрация продолжается.
* * *
Правда, несмотря на такие установки Сталина, подготовка к войне у нас шла усиленно. Укреплялась Красная Армия путем частичной мобилизации, увеличивалось производство вооружения и т.д. Но все это делалось не такими ускоренными темпами, какие требовались.
Весной 1941 г. был пересмотрен мобилизационный план. Составлялись планы обороны. Много войск было переброшено с востока на запад, многие из них были размещены в Белоруссии и на Украине. К сожалению, подготовка армии производилась такими руководителями Министерства обороны, которые не имели достаточного опыта и современных знаний. Видные военачальники — Тухачевский, Уборевич, Блюхер и другие были репрессированы. На их место пришли такие, как Кулик, который имел только начальное образование. Неразвитый, но самоуверенный, невежественный человек, хотя преданный, энергичный, он очень потрафлял Сталину. За год-два до войны было прекращено производство противотанковых орудий старого образца, а производство новых еще не налажено. Поэтому, когда немецкие танки пошли на нас, у нас не было достаточного количества противотанковых орудий, что в начале войны облегчило прорыв немцами наших позиций.
Наконец, финская война раскрыла глаза на то, что у нас на вооружении есть только винтовки, а должны быть новые пистолеты-пулеметы, потом их стали называть автоматами. А у нас вообще автоматы не производили. Только после финской войны началось производство ППШ. После эвакуации основного населения из Москвы на заводе им. Лихачева было организовано их массовое производство.
Следует отметить, что финская война велась вообще плохо. Были досадные неудачи, компрометировавшие Красную Армию в глазах мировой общественности, не говоря уже о немцах. Вина Сталина была в том, что за 2-3 года до войны уничтожил самые грамотные руководящие военные кадры. Перед войной Ворошилов в пропагандистских целях утверждал, что если война начнется, то она будет вестись на чужой территории. А мы одобряли и не возражали. Это, возможно, хороший лозунг для солдат, но очень плохой, если в него поверили полководцы и на его основе строили планы обороны. Некоторая часть наших войск была сконцентрирована близко к границе, но не было должного их эшелонирования. Не было у нас и надлежащих укреплений.
Просчет Сталина в оценке военно-политической обстановки, сложившейся перед началом войны, необъясним. Ведь ему было известно, что у нашей западной границы сосредоточивается огромное число гитлеровских войск (в июне 1941 г. 190 дивизий, более 3500 танков и свыше 50 тыс. орудий). Уже это одно обстоятельство говорило о необходимости немедленно привести Красную Армию в боевую готовность. Вместо этого 14 июня 1941 г. было опубликовано сообщение ТАСС о том, что «по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы». За день до этого текст заявления ТАСС был передан германскому послу в Москве Шуленбургу. Но германская печать даже не упомянула об этом заявлении ТАСС, что лишний раз со всей очевидностью свидетельствовало об истинных намерениях Гитлера.
Однако Сталин упорно продолжал считать, что войны именно тогда не будет. Советские войска переезжали в летние лагеря, проводили полевые учения, а многие офицеры находились в отпусках.
* * *
На Халхин-Голе вначале бои были трудные, и наше командование не справлялось. Мы еще не имели численного превосходства. Только потом подтянули силы и получили превосходство. Кроме того, вначале японская авиация проявила себя сильнее, чем советская. И тогда мы вынуждены были из других воинских частей лучших летчиков быстро перебросить в Монголию, потому что до этого в воздухе господствовали японцы.
С прибытием дополнительной авиации мы оказались сильнее в воздушных боях. Была сосредоточена большая группа войск, командующим которой был назначен Жуков. У нас также было большое превосходство в численности войск, в наличии танков, артиллерии. Нам удалось быстро все сосредоточить и организовать, что для японцев явилось неожиданным. Они потерпели поражение, что подняло дух нашей армии, партии и правительства.
События на Халхин-Голе произвели сильное впечатление и на весь мир. Я думаю, и на Германию тоже, так как боеспособность Красной Армии на поле боя была доказана.
Отрицательной стороной в этом деле было то, что наше руководство армии несколько зазналось, успокоилось на этом, критически не разобрало ход событий, чему мы обязаны победой: численному ли превосходству, или превосходству в технике, или в военно-стратегическом руководстве. Упивались сознанием победы. Испанские события показали, что наши самолеты и наши танки хуже немецких. Стали задумываться над этим тогда. Тревога появилась в этой связи.
В чем можно обвинять Сталина и в чем он виноват действительно в области подготовки страны к обороне? В том, что он не имел правильного представления, что на самом деле необходимо для того, чтобы не уступать фашистам в военной подготовке. В том, что самые грамотные, самые опытные, в военном отношении самые образованные военные руководители, которые читали военную литературу, писали сами, которые следили за развитием иностранной военной техники, знали германскую армию — Тухачевский, Уборевич и вместе с ними еще большая группа военных, почти все командующие округами, все начальники управления, которые заказывали вооружение, составляли программу вооружения армии, типы вооружения, которые разрабатывали уставы Красной Армии, обучали боям, тактике наступления и отступления (ибо не бывает войны без отступления, нельзя обучать только наступлению, ибо отступление бывает необходимым), — все эти кадры были ликвидированы. И это не десяток, а на несколько порядков больше, причем самых выдающихся. Навсегда выбыли из строя 30 тыс. офицеров. Репрессировано же было около 40 тыс. офицеров, но около 10 тыс. вернули в строй, когда началась война. То есть к началу войны наша армия лишилась 40 тыс. высших и средних командиров. Не тронули только тех, кто был в 12-й армии, то есть тех, кто был со Сталиным в Царицыне: Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Тюленев, Щаденко, Мехлис, Кулик. Каганович, кстати, тоже был там, и это помогло росту его положения в партии.
Была разгромлена военная разведка, арестованы и ликвидированы руководители разведки как в центре, так и за границей.
От кого и откуда Сталин после этого мог узнать, что необходимо сделать для обороны страны, чтобы не быть слабее фашистов в техническом отношении и в стратегии? Таких людей или не осталось или почти не осталось в Наркомате обороны. Освободившиеся посты заняли выдвиженцы. Одни — неспособные, вроде Кулика и Щаденко; другие — способные, но еще не опытные, сразу поднявшиеся с низших до высших ступеней руководства, скажем, Жуков.
Что еще Сталин сделал плохого, в чем виноват? В том, что так плохо, позорно велась война с Финляндией. Сталин был виноват здесь не меньше Ворошилова. Я помню, как это было. Сталин в присутствии Ворошилова и нас, членов Политбюро, вызвал военных работников, разработал план, какие войска перебросить, кого куда назначить, какую авиацию двинуть, в уверенности, что чуть ли не через неделю-две все будет кончено. Наспех объявил образование Карело-Финской союзной республики, во главе которой стал Куусинен.
Каково же было разочарование в ходе этой операции! Финны — малочисленные, но хорошо организованные — оказали невероятно упорное сопротивление при нашем огромном превосходстве в технике и людях. Наша армия вроде бы была хорошо вооружена и обеспечена боеприпасами, за одним важнейшим минусом: у нас еще не было автоматов ППШ, автоматических винтовок. Мы до финской войны их не видели, хвастались старой русской винтовкой. О стратегии в финской войне я уже не говорю — чего можно было ожидать от Мехлиса и ему подобных?
Сталин — умный, способный человек, в оправдание неудач в ходе войны с Финляндией выдумал причину, что мы «вдруг» обнаружили хорошо оборудованную линию Маннергейма. … Позднее оказалось, что за границей эта линия была полностью описана, чертежи ее были даже у нас в Генштабе, доставленные своевременно разведкой. Но тот, кто знал обо всем этом, был ликвидирован. А Сталин и Ворошилов об этом не знали. Ведь в штабе столько начальников сменилось! А вновь пришедшие не могли усвоить специфику этого дела, да их и не спрашивали об этом.
И вот, все-таки понимая, что это была неудача, что это подорвало престиж Красной Армии в глазах всего мира, что великая держава долго не могла справиться с такой небольшой армией, Сталин сделал «козлом отпущения» Ворошилова… Почти накануне войны Ворошилова, военного политического деятеля, отстранили от армии, назначив вместо него для «укрепления» армии Тимошенко, который, наверное, никаких книг никогда не читал. Я его помню по Северному Кавказу — командиром кавалерийской дивизии Конной армии. Он из крестьян, лично храбрый, умел с крестьянами и солдатами разговаривать, был отличный кавалерист. Ворошилов сам в военном отношении не был силен, но все-таки он был командующим военным округом много лет, почти 15 лет был наркомом обороны после Фрунзе. Какой-то опыт, знания накопил. Он способный был человек, схватывал дело, кое-что понимал. Но Тимошенко по сравнению с Ворошиловым — это небо и земля и в военном, и в политическом отношении. … А начальником Генштаба назначают Жукова, человека способного, рукастого, с командирскими способностями, но без большого военного образования и без политического образования и опыта. И это за 3 месяца до начала войны с Германией! Да, кроме того, и раньше несколько начальников штаба сменилось. Например, Егоров — офицер царской армии, командовал Южным фронтом Красной Армии в Гражданскую войну, членом Военного совета округа которого был Сталин. Все успехи этого фронта до сих пор приписываются Сталину, а они в большей степени являются заслугой Егорова, который был арестован и ликвидирован. Был назначен Шапошников — полковник царской армии, честный человек, но в присутствии Сталина — без своего мнения. Потом был назначен Мерецков, но через несколько месяцев снят, арестован и заменен Жуковым.
Даже подготовленный военный человек не смог бы так сразу выполнять функции начальника Генштаба. Нужно пробыть несколько лет на этом посту, чтобы охватить все проблемы по организации армии и тыла, производства и конструирования вооружения, создания оборонных заводов. Начальник Генштаба должен в этом разбираться. Откуда мог Жуков все это знать, понимать, как лучше поступать, если так скороспело поднимался по служебной лестнице?
С арестом старых руководителей армии были отменены старые уставы армии, ими разработанные, а новые не успел никто издать. Армия фактически осталась без уставов. Это даже невозможно представить! Но так было. Конечно, военные фактически пользовались старыми уставами, которые они хотя бы знали. …
Наконец, все это совпало с арестами директоров оборонных заводов, самых талантливых и опытных, которые при Орджоникидзе строили промышленность. Они были обвинены во вредительстве, арестованы и уничтожены. Были выдвинуты новые. Большинство образованные люди, но менее опытные в работе и как организаторы слабее, чем старые руководители. А им требовалось время, чтобы освоиться в новом положении.
Кроме того, ошибочная оценка Сталиным намерений Гитлера привела к тому, что наша промышленность не имела указаний форсировать военное производство. Таким образом, та передышка, которую мы получили в августе 1939 г., не была использована должным образом. Ведь не случайно, что потеряв в 1941-1942 гг. почти всю промышленную базу европейской части страны, в тяжелейших условиях эвакуации заводов иногда на пустое место, мы сумели очень скоро догнать, а потом и перегнать военное производство Германии и всей Европы, находившейся под ее контролем, то есть военную промышленность Франции, Чехословакии и других стран. Можно себе легко представить, что к июню 1941 г. мы могли бы иметь вооружений лучше и больше, чем Германия, если бы в 1939 г. Сталин разрешил переключить большую часть промышленности на военные цели. Этого не случилось не только потому, что Сталин считал, что у нас еще есть время, но и потому, что столь активными военными приготовлениями можно было спровоцировать Гитлера на войну: Сталин опасался, что Гитлер поспешит нанести удар, пока Красная Армия не перевооружилась. Но именно так и получилось в июне 1941 г. В этом колоссальный просчет самого Сталина. Он никого не хотел слушать, когда мы ему рекомендовали такие меры.
* * *
В субботу 21 июня 1941 г., вечером, мы, члены Политбюро, были у Сталина на квартире. Обменивались мнениями. Обстановка была напряженной. Сталин по-прежнему уверял, что Гитлер не начнет войны.
Неожиданно туда приехали Тимошенко, Жуков и Ватутин. Они сообщили о том, что только что получены сведения от перебежчика, что 22 июня в 4 часа утра немецкие войска перейдут нашу границу. Сталин и на этот раз усомнился в информации, сказав: «А не перебросили ли перебежчика специально, чтобы спровоцировать нас?»
Поскольку все мы были крайне встревожены и требовали принять неотложные меры, Сталин согласился «на всякий случай» дать директиву в войска о приведении их в боевую готовность. Но при этом было дано указание, что, когда немецкие самолеты будут пролетать над нашей территорией, по ним не стрелять, чтобы не спровоцировать нападение.
А ведь недели за две до войны немцы стали облетывать районы расположения наших войск. Каждый день фотографировали расположение наших дивизий, корпусов, армий, засекали нахождение военных радиопередатчиков, которые не были замаскированы. Поэтому в первые дни войны вывели из строя нашу связь. Многие наши дивизии вообще оказались без радиосвязи.
Мы разошлись около трех часов ночи 22 июня, а уже через час меня разбудили: «Война!» Сразу члены Политбюро вновь собрались у Сталина, зачитали информацию о том, что бомбили Севастополь и другие города. Был дан приказ немедленно ввести в действие мобилизационный план (он был нами пересмотрен еще весной и предусматривал, какую продукцию должны выпускать предприятия после начала войны), объявить мобилизацию и т. д.
Решили, что надо выступить по радио в связи с началом войны. Конечно, предложили, чтобы это сделал Сталин. Но Сталин отказался: «Пусть Молотов выступит». … Выступление Молотова прозвучало в 12 часов дня 22 июня.
Конечно, это было ошибкой. Но Сталин был в таком подавленном состоянии, что в тот момент не знал, что сказать народу.
На второй день войны для руководства военными действиями решили образовать Ставку Главного Командования. При обсуждении вопроса Сталин принял живое участие. Договорились, что Председателем Ставки будет Тимошенко, а ее членами Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, Буденный и адмирал Кузнецов. При Ставке создали институт постоянных советников. Ими стали: Ватутин, Вознесенский, Воронов, Жданов, Жигарев, Мехлис, Микоян, Шапошников.
На седьмой день войны фашистские войска заняли Минск. 29 июня, вечером, у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Подробных данных о положении в Белоруссии тогда еще не поступило. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет. Сталин позвонил в Наркомат обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в Наркомат обороны и на месте разобраться в обстановке.
В наркомате были Тимошенко, Жуков и Ватутин. Жуков докладывал, что связь потеряна, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи — никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался: «Что за Генеральный штаб? Что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует?»
Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через 5-10 Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него были мокрые.
Главным тогда было восстановить связь. Договорились, что на связь с Белорусским военным округом пойдет Кулик — это Сталин предложил, потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову.
Дела у Конева, который командовал армией на Украине, продолжали развиваться сравнительно неплохо. Но войска Белорусского фронта оказались тогда без централизованного командования. А из Белоруссии открывался прямой путь на Москву. Сталин был очень удручен. Когда вышли из наркомата, он такую фразу сказал: «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это просрали...» Мы были поражены этим высказыванием Сталина. Выходит, что все безвозвратно потеряно? Посчитали, что это он сказал в состоянии аффекта.
Через день-два, около четырех часов, у меня в кабинете был Вознесенский. Вдруг звонят от Молотова и просят нас зайти к нему. У Молотова уже были Маленков, Ворошилов, Берия. Мы их застали за беседой. Берия сказал, что необходимо создать Государственный Комитет Обороны, которому отдать всю полноту власти в стране. Передать ему функции правительства, Верховного Совета и ЦК партии. Мы с Вознесенским с этим согласились.
Договорились во главе ГКО поставить Сталина, об остальном составе ГКО при мне не говорили. Мы считали, что само имя Сталина настолько большая сила для сознания, чувств и веры народа, что это облегчит нам мобилизацию и руководство всеми военными действиями. Решили поехать к нему. Он был на ближней даче.
Молотов, правда, сказал, что Сталин в последние два дня в такой прострации, что ничем не интересуется, не проявляет никакой инициативы, находится в плохом состоянии. Тогда Вознесенский, возмущенный всем услышанным, сказал: «Вячеслав, иди вперед, мы за тобой пойдем», — то есть в том смысле, что если Сталин будет себя так вести и дальше, то Молотов должен вести нас, и мы пойдем за ним.
Другие члены Политбюро подобных высказываний не делали и на заявление Вознесенского не обратили внимания.
Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой сидящим в кресле. Увидев нас, он как бы вжался в кресло и вопросительно посмотрел на нас. Потом спросил: «Зачем пришли?» Вид у него был настороженный, какой-то странный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь по сути дела он сам должен был нас созвать. У меня не было сомнений: он решил, что мы приехали его арестовать.
Молотов от нашего имени сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы поставить страну на ноги. Для этого создать Государственный Комитет Обороны. «Кто во главе?» — спросил Сталин. Когда Молотов ответил, что во главе — он, Сталин, тот посмотрел удивленно, никаких соображений не высказал. «Хорошо», говорит потом. Тогда Берия сказал, что нужно назначить 5 членов Государственного Комитета Обороны. «Вы, товарищ Сталин, будете во главе, затем Молотов, Ворошилов, Маленков и я», — добавил он.
Зная, что и так как член Политбюро и правительства буду нести все равно большие обязанности, сказал: «Я прошу назначить меня особо уполномоченным ГКО со всеми правами члена ГКО в области снабжения фронта продовольствием, вещевым довольствием и горючим». Так и решили.
Вознесенский попросил дать ему руководство производством вооружения и боеприпасов, что также было принято. Руководство по производству танков было возложено на Молотова, а авиационная промышленность — на Маленкова. На Берия была оставлена охрана порядка внутри страны и борьба с дезертирством.
1 июля постановление о создании Государственного Комитета Обороны во главе со Сталиным было опубликовано в газетах.
Вскоре Сталин пришел в полную форму, вновь пользовался нашей поддержкой. 3 июля он выступил по радио с обращением к советскому народу.
* * *
С первого дня войны стала сказываться наша плохая подготовка к ней. Примеров тому немало. Скажу лишь об одном из них. Через месяц после начала войны у нас не стало хватать винтовок. Начали отбирать их у милиции, у охраны складов, по городам и селам для нужд фронта. Как это могло случиться? Ведь у нас было достаточное количество винтовок для обеспечения всей армии. Оказалось, что часть дивизий была сформирована по норме мирного времени. Винтовки же для обеспечения по нормам военного времени хранились в этих дивизиях, а они находились близко к границе. Когда немцы прорвали фронт и стали наступать, оружие было ими захвачено. В результате прибывавшие на фронт резервисты оказались без винтовок.
* * *
В деле снабжения Красной Армии известную роль сыграли поставки наших союзников. В первый же день войны, 22 июня 1941 г., английский премьер-министр Черчилль заявил по радио: «Мы окажем русскому народу и России любую помощь, какую только сможем». 24 июня 1941 г. президент США Рузвельт также объявил о предоставлении Советской России всей возможной помощи.
* * *
Осенью 1941 г. положение на фронте стало особенно тяжелым. Отступая, наши войска, ослабевшие, измученные в боях, встали недалеко от Москвы, в ее окрестностях. В это время на марше из Сибири и с Урала было много хорошо оснащенных и обученных дивизий, укомплектованных полностью. Но по графику движения первые эшелоны с этими войсками могли прибыть только через несколько дней, а вся масса войск — через месяц. Никаких других резервов у командования под Москвой фактически не было. Мы также не знали, есть ли такие резервы у фашистов и как близко они находятся от линии фронта. Если близко, то они имели шанс ворваться в Москву. Вопрос по существу решался тем, кому раньше удастся подбросить резервы.
16 октября, утром, вдруг будит меня охрана … и сообщает, что Сталин просит зайти к нему в кабинет. Сталин сказал, что правительство и иностранные посольства надо эвакуировать в Куйбышев, а наркоматы — в другие города. Мы согласились с предложением Сталина.
Потом мы — члены Политбюро — снова собрались, чтобы узнать, как идет эвакуация. Выполнялось все так, как было намечено, а главное — с фронтов не было тревожных вестей: разведка ни о каких передвижениях немецких войск под Москвой не доносила. И, конечно, в этот день мы не уехали. И вообще эта мысль об отъезде узкой группы руководителей отпала. Все остальные: Андреев, Каганович, Калинин, Вознесенский отбыли в Куйбышев.
Фактически Вознесенский выполнял функции Председателя Совнаркома в эвакуации. Он остался очень доволен этим, однако был не в состоянии подчинить себе все наркоматы, поскольку те разместились в разных городах, а связь их с Куйбышевым была плохая, и телеграфная, и железнодорожная, и воздушная. С другой стороны, эти города имели хорошую связь с Москвой. Поэтому каждый из членов ГКО давал прямые указания наркомам и рассматривал просьбы, минуя Куйбышев.
Я помню, как-то в январе 1942 г. сидели у Сталина Берия, я и Маленков. Берия — хитрый человек, умел так поставить вопрос, чтобы не выдать свои тайные цели. Речь шла о том, что плохо с вооружением, винтовок не хватает, пушек не хватает.
Сталин возмутился: «Как же так, в чем дело?» Берия, заранее подготовившись к этому вопросу, показал диаграмму по месяцам. Была поразительная картина: план растет из месяца в месяц, это успокаивает правительство, а фактическое производство уменьшается. «До чего же мы дойдем? Когда будет этому конец? Когда начнется подъем производства?», — возмущался Берия. Он говорил, что методы руководства Вознесенского канцелярские: вызывает своих работников, устраивает совещания, навязывает план, но не может обеспечить его выполнения. А ведь любой план без обеспечения его выполнения абсурден.
Было решено Вознесенского отстранить от руководства, возложив это дело на Берия. К Берия в подчинение перешел нарком вооружения СССР Устинов, который прекрасно знал дело, — ему нужна была только помощь со стороны правительства в обеспечении рабочей силой и материалами, а Берия мог это сделать. Производством боеприпасов ведал Ванников. Берия при моей поддержке уговорил Сталина освободить Ванникова из тюрьмы и назначить наркомом боеприпасов. Ванников, очень способный организатор, был когда-то директором тульских заводов вооружения, оттуда был выдвинут в наркомат и теперь вновь возвращен на свое место.
Опираясь на таких людей, Берия быстро поправил дело. Надо подчеркнуть, что Берия поднял вопрос в тот момент, когда эвакуированные заводы стали налаживать свое производство. Это было в феврале — марте 1942 г., когда производство на новых местах стало подниматься.
Из месяца в месяц было видно, что действительно производство растет, между планом и исполнением почти нет разницы. Планы, составленные Берия, выполняются и перевыполняются. Берия добился своего и до 1946 г. оставался зам. Председателя СНК СССР по экономическим вопросам. Поэтому после войны и атомные дела Сталин поручил ему.
Как-то у Сталина были Маленков, я и Берия. Обсуждался вопрос увеличения производства танков. Берия и говорит: «Танками занимается Молотов». Решили освободить Молотова от руководства производством танков и возложить это дело на Берия. Это круто изменило положение дел.
* * *
С захватом Ленинграда, заявлял Гитлер, «будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа».
Когда город был блокирован врагом и создалось исключительно напряженное положение с продовольственным обеспечением ленинградцев, Сталин сказал мне: «В твоих руках сходятся сейчас все нити руководства снабжением фронта и тыла. Поэтому тебе легче, чем кому-либо другому, следить за своевременным обеспечением Ленинграда всем необходимым».
После захвата гитлеровцами станции Мга подвоз грузов в Ленинград по железной дороге прекратился. Оставалось два возможных пути: по воде — через Ладожское озеро и по воздуху.
Транспортировка в Ленинград продовольствия по воздуху вначале осуществлялась бомбардировщиками «Дуглас», которые я мог направить туда, поскольку контролировал поставки от союзников. Дошло до Сталина. Он спросил меня: «О чем ты думаешь? Зачем боевые самолеты используешь не по назначению?» Пришлось уступить.
Главной питательной артерией города стала сухопутно-водная трасса.
* * *
Летом 1942 г. на Юго-Западном и Южном фронтах для нас сложилась крайне тяжелая обстановка. Немецкие войска захватили Ростов, форсировали Дон в его южном течении, выйдя к Сталинграду и Северному Кавказу. Затем последовали окружение Сталинграда и бросок крупных сил оккупантов на Кавказе в направлении к Грозному и Махачкале.
Единственным источником, обеспечивавшим страну горючим, тогда был Баку. Горючее доставлялось из Баку на морских крупнотоннажных танкерах на Астраханский рейд, где перекачивалось в морские баржи малой осадки, которые доставляли его в Астрахань, а оттуда по железной дороге в глубь страны. В зимнее время перевозка горючего из Баку, в небольшом количестве, осуществлялась через Красноводск и далее по железной дороге через Среднюю Азию.
В связи с выходом немцев на Волгу для транспортировки горючего оставалась лишь однопутная железная дорога, идущая от Красноводска через Среднюю Азию. А это тысячи километров! Она, конечно, не могла обеспечить нужды фронта и страны в горючем, хотя была надежным круглогодичным путем. Был еще один путь из Баку — по Каспийскому морю, затем через Гурьевский канал и по реке Урал, а далее по железной дороге на фронт.
До войны таким путем горючее мы не возили. Теперь же это был единственный шанс, которым мы и вынуждены были воспользоваться.
Перевозка горючего происходила так: из Баку на крупнотоннажных танкерах до Баутино (порт Шевченко), где горючее переливалось в морские баржи с последующей доставкой их на буксирах до Гурьевского рейда; на рейде горючее вновь перекачивалось, но уже в речные нефтеналивные баржи с малой осадкой, затем с помощью мелкосидящих буксиров эти баржи проводились через Гурьевский канал до острова Пешной (Гурьев), куда была подведена железная дорога.
Из-за непрерывных ветров и понижения уровня воды почти каждый день баржи садились на мель. Обойти их при этом сбоку было невозможно из-за узости канала. Снятие барж с мели каждый раз требовало много времени и больших усилий.
* * *
В 1942 г. Кубань, Ставрополь, Дон, Украина — тогда основные житницы страны — были оккупированы гитлеровцами. Снабжение страны и фронта хлебом стало особенно острой проблемой. Решить ее можно было только за счет Поволжья и Сибири. Сталин решил, что с вопросом мы должны были разобраться на местах и там же принимать нужные меры. Мне было поручено выехать в Пензенскую, Куйбышевскую, Чкаловскую, Саратовскую, Тамбовскую, Рязанскую области и в Башкирскую АССР. …
* * *
Как же родилась идея создания Резервного (Степного) фронта и как проходила его организация?
27 марта 1943 г. во втором часу ночи я приехал к Сталину по его вызову на ближнюю дачу в Волынском. Он рассказал, что, по данным нашей разведки, гитлеровцы концентрируют крупные силы для наступления в районе Курского выступа. «По-видимому, — сказал Сталин, — они попытаются овладеть стратегической инициативой, имея дальний прицел на Москву. Чтобы этого не допустить, нам надо срочно организовать крепкий Резервный фронт, который мы могли бы ввести в бой в наиболее острый и решающий момент сражения и при дальнейшем переходе в контрнаступление».
Вопрос этот, судя по всему, уже был хорошо им обдуман и обсужден в Ставке…
«Дело это очень важное и необходимое для дальнейших перспектив войны, — продолжал Сталин. — Надо, чтобы ты как член ГКО взял на себя организацию этого Резервного фронта, благо в твоих руках сосредоточены наши материальные ресурсы. Подбором командного состава фронта, как обычно, будет заниматься Генштаб, а все остальное — за тобой».
Такое поручение было для меня не только неожиданным, но и необычным, поскольку делами войсковых формирований я до тех пор не занимался…
3 февраля 1942 г. я был уже формально введен в состав членов ГКО. Функции мои значительно расширились. Теперь моему контролю было подчинено также денежное и артиллерийское снабжение Красной Армии и вообще «все органы снабжения Наркомата обороны по всем видам снабжения и транспортировки».
Как показал ход войны, в победоносном исходе битвы на Курской дуге Резервному (Степному) фронту принадлежала особая роль. Наступление ударной группировки противника в полосе Центрального фронта было отражено на седьмой день операции при помощи сил этого фронта, без привлечения других резервов Ставки.
В полосе Воронежского фронта удар наносила еще более мощная группировка врага. Она вклинилась в нашу оборону на глубину 30-35 км, но и ее продвижение было остановлено на восьмой день операции. Однако для этого пришлось привлечь две армии Резервного (Степного) фронта — 5-ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова и 5-ю гвардейскую армию Жадова. Наличие Степного фронта в этот момент спасло положение. Остальные же силы Степного фронта были использованы для контрнаступления на белгородско-харьковском направлении, для освобождения Харькова и победоносного завершения Курской битвы. В решении этих задач Резервному (Степному) фронту принадлежала чрезвычайно важная и, я бы сказал, решающая роль.
Работа по формированию Резервного фронта постоянно находилась в поле зрения Сталина. Я имел возможность свободно, когда мне было нужно, заходить к нему для беседы по тому или иному вопросу. Большей частью мы виделись два раза в день, что, конечно, облегчало работу. Это объяснялось тем, что вопросы снабжения фронта были тесно связаны с любыми военными операциями. Никаких отчетов ему я не писал: устно информировал его каждый день, согласовывал вопросы — все делалось оперативно, без бумажной волокиты.
30 сентября 1943 г. «за особые заслуги в области постановки дела снабжения Красной Армии продовольствием, горючим и вещевым имуществом в трудных условиях военного времени» мне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
* * *
К концу войны, уже с 1944 г., когда стала явной наша победа, Сталин, зазнавшись, стал капризничать. Первое проявление этой стороны его характера в отношении меня имело место в сентябре 1944 г., когда он грубо отклонил мое предложение об отпуске семян для озимого сева 1944 г. тем освобожденным от оккупации колхозам и совхозам Украины, которые сами не в силах были найти семенное зерно. В этих хозяйствах была явная угроза недосева озимых, что означало ущерб для будущего урожая.
На моей записке 17 сентября 1944 г. Сталин написал: «Молотову и Микояну. Голосую против. Микоян ведет себя антигосударственно, плетется в хвосте за обкомами и развращает их. Он совсем развратил Андреева. Нужно отобрать у Микояна шефство над Наркомзагом и передать его, например, Маленкову».
На следующий день я был освобожден от обязанностей по контролю за работой Наркомата по заготовкам, и эта функция была возложена на Маленкова.
Я знал об отношении Сталина к крестьянам. Он охотно брал с них все, что можно было взять, но очень неохотно шел на то, чтобы им что-то дать, даже в виде возвратной ссуды с большим процентом, когда они были в безвыходном положении.
Кстати, через год-два дело заготовок опять было поручено мне. Видно, Маленков справлялся с ним хуже.
* * *
Атмосфера в руководстве партией и страной во время Великой Отечественной войны настолько хорошо в целом сложилась, что я исключал возможность того, что после войны в какой-то, даже в малой степени повторится истребление руководящих кадров и необоснованные репрессии.
Боевая обстановка и совместные действия в годы войны в тылу и на фронте сближали и положительно влияли на общественное развитие нашей страны. Учитывая это, а также эволюцию характера и поведения Сталина, я полагал, что начнется процесс демократизации в стране и партии, что как минимум, вернемся к тем демократическим формам отношений в партии и отчасти в стране, которые были до 1929 г., и пойдем дальше. Я даже был уверен в этом, и какое-то чувство радости сопровождало меня. Я вновь почувствовал доверие и дружеское отношение к Сталину, тем более что всю войну Сталин доверял мне в делах, которые мне поручались. У меня почти не было с ним столкновений — ни открытых, ни скрытых.
Я ожидал изменения политики и в отношении деревни. Я понимал и считал правильным, что индустриализация перед войной и в ходе самой войны вынуждала идти на большие изъятия, которые мы совершали в отношении деревни. Деревня давала городу по крайне низким заготовительным ценам хлеб, мясо, молоко и другие продукты, но долго это продолжаться не могло. Может быть, год-два после войны это придется продолжать, считал я, потому что сильно обеднели мы в войну, но когда восстановительный послевоенный процесс даст значительные успехи, в первую очередь нужно будет поднимать крайне низкие заготовительные цены, унаследованные фактически с конца 20-х годов, когда существовали ножницы между ценами на сельскохозяйственные и промышленные товары.
Теперь этого терпеть было вовсе нельзя. Я, правда, об этом ни с кем своими мыслями не обменивался до момента, когда это можно было бы осуществить. Я настолько верил в разум Сталина, что думал: он поймет — эта задача вполне осуществима и необходима. Я даже не сомневался в правильном разрешении этого вопроса. Но постепенно пришлось разочароваться и в этих своих надеждах, и в самом Сталине в этом отношении.
У меня вновь возникло чувство недоверия к его разуму и его действиям. Более того, некоторые нетерпимые черты его поведения стали еще острее проявляться в конце и после войны.
* * *
Удручающее впечатление на меня произвело то, что Сталин добился выселения целых народов — чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, балкар, кабардинцев, немцев Поволжья и других — с их исконных земель в европейских районах и в Закавказье, а также татар из Крыма, греков из Закавказья уже после того, как немцы были изгнаны с территорий, где проживали эти народы.
Я возражал против этого. Но Сталин объяснял это тем, что эти народы были нелояльными к Советской власти, сочувствовали немецким фашистам. Я не понимал, как можно было обвинять целые народы чуть ли не в измене, ведь там же есть партийные организации, коммунисты, масса крестьян, советская интеллигенция! Наконец, было много мобилизовано в армию, воевали на фронте, многие представители этих народов получили звания Героев Советского Союза!
Но Сталин был упрям. И он настоял на выселении всех до единого с обжитых этими народами мест.
Дело переселения народов Сталин поручил Серову, заместителю Берия бывшему наркому внутренних дел Украины, которому были даны неограниченные полномочия по организации выселения. В течение суток-двое загружались вагоны и отправлялись в другие места. Была такая высокая организованность в этом деле, которую, конечно, нужно было бы применять в другом деле, а не в таком позорном. Серов дошел даже до того, что представил к наградам тех офицеров и военнослужащих, которые осуществляли эту операцию, и эти награды были им вручены.
Только после смерти Сталина отменили Указ о награждении и лишили наград этих офицеров и военнослужащих. Это предложение было внесено мною. И после смерти Сталина была организована комиссия под моим председательством по возвращению на родину, в родные места, необоснованно выселенных народностей, по восстановлению их государственности, за исключением крымских татар и немцев Поволжья.
Главная причина, почему не была восстановлена Крымско-Татарская автономная республика, заключалась в следующем: территория ее была заселена другими народами, и при возвращении татар пришлось бы очень много людей снова переселять. Кроме того, крымские татары были близки к казахским татарам, да и к узбекам. Они хорошо устроились в новых районах, и Хрущев не видел смысла вновь их переселять, тем более что Крым вошел в состав Украины. Но татарская интеллигенция не могла смириться с потерей Крыма и еще долго добивалась возвращения.
А немцы Поволжья хорошо освоились на целинных землях Казахстана, хорошо работали там, и Хрущев считал, что не было большого смысла их переселять, кроме того, чтобы вернуть их туда, где жили их предки. Президиум ЦК с этим согласился.
Все мои надежды на демократизацию режима постепенно развеивались.
* * *
Сталин очень любил смотреть кинокартины, особенно трофейные. Их тогда было много. Как-то Большаков, бывший тогда министром кинематографии, предложил показать картину английского производства. Название ее не помню, но сюжет запомнил хорошо. В этой картине один моряк — полубандит-полупатриот, преданный королеве, берется организовать поход в Индию и другие страны, обещая привезти для королевы золото, алмазы. И вот он усиленно набирает команду таких же бандитов. Среди них было 9 или 10 близких соратников, с которыми он совершил этот поход и возвратился с богатством в Лондон. Но он не захотел делить славу со своими соратниками и решил с ними расправиться. У него в несгораемом шкафу стояли фигурки всех его сотоварищей. И если ему удавалось уничтожить кого-то из них, он доставал соответствующую фигурку и выбрасывал ее. Так он по очереди расправился со всеми своими соратниками и все фигурки выбросил.
Это была ужасная картина! Такое поведение даже в бандитском мире, наверное, считалось бы аморальным. В этом мире ведь своя мораль есть: товарища своего не выдавай и т.д. А здесь отсутствие даже бандитской морали, не говоря уже о человеческой. А Сталин восхищался: «Молодец, как он здорово это сделал!» Эту картину он три или четыре раза смотрел. Мы говорили между собой и удивлялись, как Сталин может восхищаться таким фильмом. По существу же, здесь он находил некоторое оправдание тому, что он делал сам в 1937-1938 гг. — так я, конечно, думаю. И это у меня вызывало еще большее возмущение.
Видимо, этим же объясняется восхищение Сталина личностью Ивана Грозного, особенно его деятельностью, когда он в интересах создания единого русского государства убивал бояр самым зверским методом, не считаясь ни с какой моралью, за что русские историки еще при царском режиме критически относились к нему. Сталин же говорил, что Иван Грозный еще мало убил бояр, что их надо было всех убить, тогда он смог бы раньше создать действительно единое крепкое русское государство.
Видимо, этими же мотивами можно объяснить оценку Сталиным некоторых действий Гитлера, хотя это было еще до развертывания репрессий. Так, когда Гитлер, стремясь укрепить свою власть, послал своих соратников в казармы штурмовиков и учинил там расправу на месте без суда и следствия над верхушкой левых штурмовиков — Ремом и другими, это поразительное зверство вызвало всеобщее возмущение. И я был поражен, когда Сталин, возвращаясь несколько раз к этому факту, восхищался смелостью, упорством Гитлера, который пошел на такую меру, чтобы укрепить свою власть. «Вот молодец, вот здорово, — говорил Сталин. — Это надо уметь!» На меня это произвело ужасное впечатление. Это же бандитская шайка, которая по-бандитски друг с другом расправляется! Чем же она может вызвать восхищение?
* * *
В 1948 г., когда Сталин отдыхал в Мюссерах, я приехал к нему вместе с Молотовым. Был и Поскребышев, который редко сидел за обеденным столом, но в этот раз он присутствовал. Я сидел рядом со Сталиным, но за углом стола. Поскребышев сидел на другой стороне стола, с краю, Молотов напротив меня.
Вдруг в середине ужина Поскребышев встал с места и говорит: «Товарищ Сталин, пока вы отдыхаете здесь на юге, Молотов и Микоян в Москве подготовили заговор против вас».
Это было настолько неожиданно, что с криком: «Ах ты, мерзавец!» — я схватил свой стул и замахнулся на него. Сталин остановил меня за руку и сказал: «Зачем ты так кричишь, ты же у меня в гостях». Я возмутился: «Невозможно же слушать подобное, ничего такого не было и не могло быть!» Еле успокоившись, сел на место. Все были наэлектризованы. Молотов побелел, как бумага, но, не сказав ни слова, сидел как статуя. А Сталин продолжал говорить спокойно, без возмущения: «Раз так — не обращай на него внимания». Видимо, все это было заранее обговорено между Сталиным и Поскребышевым. До этого подобных случаев не было.
Поскребышев, видимо, вел наблюдение, кто и куда ходит. Мои частые посещения кабинета Молотова вызывались тем, что, когда Сталин поручал какое-либо дело Молотову (а это обычно касалось вопросов внешней политики), Молотов всегда старался, чтобы не ему одному поручали, а еще двум-трем товарищам. А так как я занимался многие годы вопросами внешней экономики, то, естественно, доля этих поручений падала на меня. Поручения эти обычно давались Сталиным устно. Поскребышев мог даже о них и не знать.
Видимо, Сталин через Поскребышева хотел учинить проверку, как мы будем реагировать на это обвинение. Но очень возможно, что эта странная идея о совместной нашей с Молотовым подготовке «заговора против Сталина» у него сохранялась после этого случая все время, и в конце 1952 г. он решил избавиться от такой опасности.
Спокойным со Сталиным не мог чувствовать себя никто. Как-то после ареста врачей, когда действия Сталина стали принимать явно антисемитский характер, Каганович сказал мне, что ужасно плохо себя чувствует: Сталин предложил ему вместе с интеллигентами и специалистами еврейской национальности написать и опубликовать в газетах групповое заявление с разоблачением сионизма, отмежевавшись от него. «Мне больно потому, — говорил Каганович, — что я по совести всегда боролся с сионизмом, а теперь я должен от него «отмежеваться»! Это было за месяц или полтора до смерти Сталина — готовилось «добровольно-принудительное» выселение евреев из Москвы.
Смерть Сталина помешала исполнению этого дела.
* * *
Еще одной преступной ошибкой Сталина кроме уничтожения командных кадров армии, партии и государства в канун войны было то, что он вбил себе в голову, что Гитлер в ближайшие год-два не нападет на нас, хотя и он и мы знали, что война с Германией, победившей почти всю Европу, неизбежна. Поэтому оборонные мероприятия он растягивал, а не ускорял.
Более того, он считал, что, пока Гитлер Англию не захватит, он не пойдет на нас, что немцы убедились в правильности теории Бисмарка, что Германия никогда не победит в войне, если одновременно будет воевать на два фронта.
Но времена Бисмарка прошли. Вся Западная Европа была под властью Гитлера, а на западе сопротивлялась только островная Англия, которая не способна была нанести удар по Германии на континенте.
* * *
Через месяц или два после начала войны, когда Белоруссия была так позорно потеряна и вместе с ней — огромное количество наших отборных войск, попавших в окружение, воевавших до последнего патрона, павших смертью храбрых или сотнями тысяч попавших в плен, Сталин предложил предать военному трибуналу командующего этими войсками Павлова.
Ничего чрезмерно компрометирующего против Павлова не было. Абсолютно чистый, честный, лично обаятельный человек, безупречной храбрости, преданный, умевший руководить танковыми войсками в пределах бригады, но не имевший другого опыта высшего командования. А он был сразу назначен командующим всеми войсками Белорусского округа. Его можно обвинить только в том, что он категорически не отказался от такого выдвижения.
Формально можно было его разжаловать, и только, и Павлов просил дать ему возможность оправдать себя в боях в роли командира танковой бригады. Так и надо было, но Сталин настоял на его расстреле.
* * *
Многие мемуаристы, которые встречались со Сталиным один или несколько раз, выносили положительное, приятное впечатление о нем и об этом пишут, не греша перед своей совестью.
Действительно, Сталин, когда хотел, когда, по его мнению, это было необходимо, владел собой полностью, умел так повести прием людей и беседу с ними, что производил отличное, приятное впечатление.
Это касается и советских людей, и особенно иностранцев. Известно, с каким мастерством, выдержкой он вел переговоры с Черчиллем, Иденом, когда они приезжали в Москву; с Рузвельтом и Черчиллем на Тегеранской и Ялтинской конференциях и на Потсдамской конференции, где кроме Черчилля были Эттли — новый английский премьер и Трумэн — президент США после смерти Рузвельта. И теперь, когда перечитываешь записи бесед, чувствуешь превосходство Сталина в манере высказываний и точности формулировок, легкости, спокойствии и разумности. Где нужно, он настойчив, умеет находить новые аргументы в поддержку своей линии, не уступая им; в других случаях делает уступки, которые не противоречат нашим интересам, что производит приятное впечатление на собеседников.
Но вот удивительно другое, когда некоторые советские люди, на глазах которых проявились худшие черты характера Сталина, предвиденные Лениным, когда проявился произвол в невероятных формах, которые даже Ленин не мог предполагать (произвол и беззаконие 1937-1938 гг., приведший к уничтожению многих тысяч руководящих деятелей всех областей нашего государства и партии и миллионов простых людей), в своих мемуарах дают высокую общую оценку Сталину.
* * *
Теперь на многие вопросы я имею другой взгляд, потому что в то время очень много фактов, документов, которые освещали деятельность Сталина, мы не знали. Нам присылали только лишь те документы, как теперь стало ясно, которые было выгодно разослать, чтобы в желаемом духе настроить нас.
Например, дела военных: Тухачевского, Уборевича, Якира и других. Как-то не в обычном порядке на заседании Политбюро, а в кабинете у Сталина, куда нас, членов Политбюро пригласили, Сталин стал излагать сообщение, что по данным НКВД эти военные руководители являются немецкими шпионами, и стал зачитывать какие-то места из документов. Затем он добавил, что у него были сомнения, насколько правильно сообщение НКВД, но они рассеялись после того, как недавно было получено сообщение от чехословацкого президента Бенеша, что их разведка имеет данные через свою агентуру в немецкой разведке, что перечисленные военные руководители завербованы немцами.
Я сказал Сталину: «Уборевича я очень хорошо лично знаю, других также знаю, но Уборевича лучше всех. Это — не только отличный военный, но и честнейший, преданный партии и государству человек. Уборевич много рассказывал мне о своем пребывании в Германии, в немецком штабе для повышения своей квалификации. Да, он высказывал высокую оценку генералу фон Секту, говорил, что многому научился у немцев с точки зрения военной науки и техники, методов ведения войны. Будучи уже здесь, он все делал для того, чтобы перевооружить нашу армию, переучить ее для новых методов ведения войны. Я исключаю, что он мог быть завербованным, мог быть шпионом. Да и зачем ему быть шпионом, занимая такое положение в нашем государстве, в наших Вооруженных Силах, имея такое прошлое в гражданской войне?»
Сталин же стал доказывать, что именно тогда, когда Уборевич был в германском штабе на обучении, он и был завербован немцами. Об этом говорят данные, которыми располагает НКВД. Правда, он сказал, что эти данные подлежат проверке. «Мы в состав суда, — сказал Сталин, — включим только военных людей, которые понимают дело, и они разберутся, что правда и что нет». Во главе был поставлен Буденный. Там был и Блюхер. Я не помню, кого еще назвал Сталин.
Нас несколько успокоило сообщение о том, что военные люди будут разбираться в этом деле и, возможно, обвинения отпадут.
Потом, когда Ворошилов был уже на пенсии, я пришел к нему на день рождения. Они с Буденным опять стали возмущаться пересмотром процесса над военными лидерами. «Говорят, они не были врагами, — возбужденно шумел Буденный. — Но ты же помнишь, как они призывали нас убрать из армии?» И Ворошилов ему поддакивал. Вот такое у них было понимание вредительства, оказывается.
* * *
Раз как-то весной мы были на даче у Сталина. Сидели в кабинете, потом пошли обедать в сад. В это время Сталин с Вознесенским остановились в коридоре. После Вознесенский, очень обрадованный, подошел ко мне и сказал, что большое дело сделал: показал Сталину свой труд, тот полностью одобрил его, сказал, что можно публиковать. Речь шла о книге «Экономика Советского Союза во время войны», которую после войны написал Вознесенский.
Затем этот труд получил Сталинскую премию, кажется, 200 тыс. рублей. Эти деньги Вознесенский отдал на общественные нужды. Дело, конечно, не в деньгах. Он добился признания себя как экономиста, знатока военной экономики.
Все шло нормально. Хотя как человек Вознесенский имел заметные недостатки. Например, амбициозность, высокомерие. В тесном кругу узкого Политбюро это было заметно всем. В том числе его шовинизм. Сталин даже говорил нам, что Вознесенский — великодержавный шовинист редкой степени. «Для него, — говорил, — не только грузины и армяне, но даже украинцы — не люди».
При обсуждении плана на 1948/49 год в Политбюро этот вопрос встал со всей остротой. Сталин предложил поручить Вознесенскому как председателю Госплана обеспечить такой рост, чтобы не было падения плана производства в первых кварталах против последних. Не знаю почему, видимо, психологическая обстановка была такая, Вознесенский ответил, что можно это сделать. Как он мог такое сказать? Я был удивлен его ответом: ведь умный человек, знает уже не только чистую экономику, но и реальное хозяйство.
Он составил проект такого плана. В нем не было падения производства в первом квартале, а намечалось даже какое-то повышение. Сталин был очень доволен.
И вот месяца через два или три Берия достает бумагу заместителя председателя Госплана, ведающего химией, которую тот написал Вознесенскому как председателю Госплана. В этой записке говорилось, что «мы правительству доложили, что план этого года в первом квартале превышает уровень IV квартала предыдущего года. Однако при изучении статистической отчетности выходит, что план первого квартала ниже того уровня производства, который был достигнут в четвертом квартале, поэтому картина оказалась такая же, что и в предыдущие годы».
Эта записка была отпечатана на машинке. Вознесенский, получив ее, сделал от руки надпись: «В дело», то есть не дал ходу. А он обязан был доложить ЦК об этой записке и дать объяснение. Получилось неловкое положение — он был главным виновником и, думая, что на это никто не обратит внимания, решил положить записку под сукно. Вот эту бумагу Берия и показал, а достал ее один сотрудник Госплана, который работал на госбезопасность, был ее агентом.
Сталин был вне себя: «Значит, Вознесенский обманывает Политбюро и нас, как дураков, надувает? Как это можно допустить, чтобы член Политбюро обманывал Политбюро? Такого человека нельзя держать ни в Политбюро, ни во главе Госплана!» В это время Берия и напомнил о сказанных в июне 1941 г. словах Вознесенского: «Вячеслав, иди вперед, мы за тобой». Это, конечно, подлило масла в огонь, и Сталин проникся полным недоверием к Вознесенскому, которому раньше очень верил.
Прошло месяца два. Потом Сталин провел решение вывести Вознесенского и из состава ЦК. Видимо, за это время Сталин поручил подготовить «дело Вознесенского». Об этом приходится гадать, потому что Вознесенскому было предъявлено обвинение во вредительстве и в антипартийной деятельности. Без Сталина для МГБ это было бы невозможно. Одновременно с ним была арестована и ленинградская группа товарищей, хотя они никак не были с ним связаны. Жертвами «ленинградского дела» оказались Вознесенский, который до этого был членом Политбюро, Кузнецов — секретарь Ленинградского обкома партии, затем секретарь ЦК ВКП(б), Родионов — Председатель Правительства Российской Федерации, Попков — Председатель Ленинградского Совета депутатов трудящихся и другие.
Дело было организовано, и проведен закрытый процесс в присутствии около 600 человек партийного актива Ленинграда. Это было похоже на то, как был устроен суд в 1936 г. над Зиновьевым, Рыковым и Бухариным. Правда, там процесс был открытый, присутствовали даже иностранные корреспонденты. Этот же процесс был открытым для актива, но закрытым для общественности. Все эти товарищи были обвинены в «попытке заговора против руководства» и расстреляны.
Обвинение это ошибочно, потому что я лично хорошо знал этих руководителей, их сильные и слабые стороны и никогда не сомневался в их преданности партии, государству и лично Сталину.
* * *
Об одном из них — Алексее Александровиче Кузнецове мне хочется рассказать подробнее.
22 июня 1941 г., в день начала войны, Жданов был в Сочи. Поэтому вначале Сталин был вынужден обращаться к Кузнецову. Но даже когда Жданов прилетел, Кузнецову доверили самые ответственные вопросы. А уж когда началась блокада и немцы стали обстреливать город, Жданов практически переселился в бомбоубежище, откуда выходил крайне редко. Прилетая в Москву, он сам откровенно рассказывал нам в присутствии Сталина, что панически боится обстрелов и бомбежек и ничего не может с этим поделать. Поэтому всей работой «наверху» занимается Кузнецов. Занимаясь снабжением города, я и мой представитель с мандатом ГКО Павлов имели дело по преимуществу с Кузнецовым, оставляя Жданову, так сказать, протокольные функции.
Сталин питал какую-то слабость к Жданову, не спаивал его, поскольку знал, что тот склонен к алкоголизму, жена и сын удерживают его часто. Простил ему и это признание в трусости. Может быть, потому что сам Сталин был не очень-то храброго десятка. Ведь это невозможное дело: Верховный Главнокомандующий ни разу не выезжал на фронт!
Впрочем, один раз поехал. Отвлекусь от основного текста ради этого эпизода. Зная, что это выглядит неприлично, однажды, когда немцы уже отступили от Москвы, поехал на машине, бронированном «Паккарде», по Минскому шоссе, поскольку оно использовалось нашими войсками и мин там уже не было. Хотел, видно, чтобы по армии прошел слух о том, что Сталин выезжал на фронт. Однако не доехал до фронта, может быть, около пятидесяти или семидесяти километров. В условленном месте его встречали генералы (не помню кто, вроде Еременко). Конечно, отсоветовали ехать дальше — поняли по его вопросу, какой совет он хотел услышать. Такой трус оказался, что опозорился на глазах у генералов, офицеров и солдат охраны. Захотел по большой нужде (может, тоже от страха? не знаю), и спросил, не может ли быть заминирована местность в кустах возле дороги? Конечно, никто не захотел давать такой гарантии. Тогда Верховный Главнокомандующий на глазах у всех спустил брюки и сделал свое дело прямо на асфальте. На этом «знакомство с фронтом» было завершено и он уехал обратно в Москву.
Однако, как и с Вознесенским, Сталин сделал ошибку, слишком быстро подняв Кузнецова над другими секретарями ЦК. С 1946 г. Кузнецов стал секретарем ЦК ВКП(б) по кадрам. А вскоре Сталин ему поручил и контроль над работой МГБ, над Абакумовым. Кузнецов для Кремля был наивным человеком: он не понимал значения интриг в Политбюро и Секретариате ЦК — ведь кадры были раньше в руках у Маленкова. А МГБ традиционно контролировал Берия в качестве зампреда Совмина и члена Политбюро. Видно, Сталин сделал тогда выбор в пользу Жданова, как второго лица в партии, и Маленков упал в его глазах. А к Берия начинал проявлять то же отношение, что и к Ягоде и Ежову: слишком «много знал», слишком крепко держал «безопасность» в своих руках. Все же Кузнецову следовало отказаться от таких больших полномочий, как-то схитрить, уклониться. Но Жданов для него был главный советчик. Жданов же, наоборот, скорее всего, рекомендовал Сталину такое назначение, чтобы изолировать вообще Маленкова и Берия от важнейших вопросов. Конечно, у Кузнецова сразу появились враги: Маленков, Берия, Абакумов. Пока был жив Жданов, они выжидали. Да и ничего не могли поделать.
Сам Кузнецов был обаятельным человеком, веселым, искренним. Но сказывалось отсутствие опыта в интригах.
Мой сын Серго как-то летом 1947 г. привез к нам девушку, за которой уже несколько месяцев ухаживал и бывал в ее доме. Это была дочь Кузнецова Алла. Девушка обаятельная, красивая, жизнерадостная, с неисчезавшей улыбкой и вечными шутками, которые очень нравились Ашхен и мне. Мы ее полюбили, как родную дочь. К другим невесткам Ашхен тоже относилась хорошо, но иногда критиковала их. Аллу же она никогда не критиковала, в ее присутствии всем нам было весело и приятно. Поэтому, когда Серго сказал о своем желании жениться на Алле, мы были только рады, хотя ему едва минуло 18 лет.
Кузнецову и его жене Зинаиде Дмитриевне Серго тоже понравился. Как-то Сталин позвал всех, кто отдыхал на Черном море в тех краях к себе на дачу на озере Рица. Там при всех он объявил, что члены Политбюро стареют (хотя большинству было немногим больше 50 лет и все были значительно младше Сталина, лет на 15-17, кроме Молотова, да и того разделяло от Сталина 11 лет). Показав на Кузнецова, Сталин сказал, что будущие руководители должны быть молодыми (ему было 42-43 года), и вообще, вот такой человек может когда-нибудь стать его преемником по руководству партией и ЦК. Это, конечно, было очень плохой услугой Кузнецову, имея в виду тех, кто втайне мог мечтать о такой роли.
Все понимали, что преемник будет русским, и вообще, Молотов был очевидной фигурой. Но Сталину это не нравилось, он где-то опасался Молотова: обычно держал его у себя в кабинете по многу часов, чтобы все видели как бы важность Молотова и внимание к нему Сталина. На самом же деле Сталин старался не давать ему работать самостоятельно и изолировать от других, не давать общаться с кем бы то ни было без своего присутствия.
В начале сентября 1948 г. неожиданно для нас во время отдыха на Валдае умирает Жданов. Мы знали о его нездоровом сердце, но не думали, что он так плох. Немедленно оживился Маленков — Сталин вернул его в Секретариат ЦК из Совмина. И если Жданов чувствовал себя спокойно, когда Кузнецов управлял кадрами, то Маленков, наверняка сговорившись с Берия, стал интриговать. К концу 1948 г. в Политбюро стало известно, что Сталин согласился на то, чтобы снять Кузнецова с работы в ЦК. Это был дурной знак: было понятно, что дело принимает плохой оборот.
На 15 февраля 1949 г. была назначена регистрация брака между Серго и Аллой.
И именно 15 февраля Кузнецов был официально снят с работы за «антипартийные действия», что уже предвещало расправу с ним.
Кузнецов после долгих недель ожидания получил направление на генеральские курсы в Перхушково. Алла и Серго его там часто навещали и рассказывали, что он чувствует себя бодро, даже радуется возможности наконец поучиться всерьез, ходит в форме генерал-лейтенанта, которым стал будучи членом Военного совета Ленинградского фронта. У меня даже появилась надежда, что, может быть, его оставят в покое.
Но в августе 1949 г. его арестовали. Видимо, он понадобился для «ленинградского дела», которое должно было устранить сразу и Вознесенского и Кузнецова, хотя они никак не были связаны. Оба были уже сняты с высоких должностей, но кому-то надо было исключить всякую возможность их возврата. Сам Сталин, говорили, ждал, что Кузнецов напишет ему покаянное письмо, но тот этого не сделал. «Значит, виноват», — заключил Сталин. Это не значит, что, если бы написал, что-то обязательно бы изменилось: при болезненной недоверчивости Сталина, с письмом или без него, результат, скорее всего, был бы одинаковым. Сколько тысяч людей писали ему безрезультатно!
Обвинения, в которых они признались (конечно, не добровольно), были собраны в переплетенный том, который разослали членам Политбюро. Основная суть была незатейливой: он и его сообщники были якобы недовольны засильем кавказцев в руководстве страны и ждали естественного ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это положение, а пока хотели перевести Правительство РСФСР в Ленинград, чтобы оторвать его от московского руководства. Были еще обвинения в проведении в Ленинграде какой-то ярмарки без соответствующего оформления через ЦК, попытке Кузнецова возвеличить себя через музей обороны Ленинграда и прочая чепуха. Видно, очень стойко они держались, если не было записано «намерение устранить Сталина» — излюбленное обвинение 30-х годов. Но и «кавказцы», и желание отдалить руководство России от руководства СССР были рассчитаны на Сталина: он охотно клевал на такие вещи. И тут он клюнул.
«Ленинградское дело» вызвало у меня большую тревогу, что может вновь вернуться время, подобное 1936-1938 гг., но только несколько в новой обстановке, несколько новыми методами, может быть. Одно было ясно, что Сталин хочет избавиться от тех руководящих кадров, которые решали судьбу всей страны после 1938 г., возглавляя хозяйственную работу, и которые вынесли на своих плечах все трудности войны.
* * *
Накануне ХIХ съезда партии вышла брошюра Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Прочитав ее, я был удивлен: в ней утверждалось, что этап товарооборота в экономике исчерпал себя, что надо переходить к продуктообмену между городом и деревней. Это был невероятно левацкий загиб. Я объяснял его тем, что Сталин, видимо, планировал осуществить построение коммунизма в нашей стране еще при своей жизни, что, конечно, было вещью нереальной.
Как-то на даче Сталина сидели члены Политбюро и высказывались об этой книге. Берия и Маленков начали активно подхалимски хвалить книгу, понимая, что Сталин этого ждет. Молотов что-то мычал вроде бы в поддержку, но в таких выражениях и так неопределенно, что было ясно: он не убежден в правильности мыслей Сталина. Я молчал.
Вскоре после этого в коридоре Кремля мы шли со Сталиным, и он с такой злой усмешкой сказал: «Ты здорово промолчал, не проявил интереса к книге. Ты, конечно, цепляешься за свой товарооборот, за торговлю». Я ответил Сталину: «Ты сам учил нас, что нельзя торопиться и перепрыгивать из этапа в этап и что товарооборот и торговля долго еще будут средством обмена в социалистическом обществе. Я действительно сомневаюсь, что теперь настало время перехода к продуктообмену». Он сказал: «Ах так! Ты отстал! Именно сейчас настало время!» В голосе его звучала злая нотка.
За несколько дней до съезда члены Политбюро собрались для обмена мнениями об открытии съезда. Зашел вопрос о составе президиума. Обычно на съезде президиум избирался из 27-29 человек. Входили, как всегда, члены Политбюро и руководящие работники краев, республик и главных областей. Сталин на этот раз предложил президиум из 15 человек. Это было удивительным и непонятным. Он лишил таким образом возможности многих видных партийных деятелей войти в президиум съезда, а они этого вполне заслуживали. Сталин сам назвал персонально имена, сказав при этом, что «не надо вводить в президиум Микояна и Андреева, как неактивных членов Политбюро».
Это вызвало смех членов Политбюро, которые восприняли замечание Сталина как обычную шутку: Сталин иногда позволял себе добродушно шутить. Я тоже подумал, что это шутка. Но смех и отношение членов Политбюро к «шутке» Сталина вызвали его раздражение. «Я не шучу, — сказал Сталин жестко, — а предлагаю серьезно». Смех сразу прекратился, все присутствующие тоже стали серьезны и уже не возражали.
А я был ошарашен, все думал о предложении Сталина, чем оно вызвано, и пришел к выводу, что это произошло непосредственно под влиянием моего несогласия с его утверждениями в книге по поводу перехода к продуктообмену.
В прениях по докладу Сталин предложил выступить Берия и мне. Сталин не сомневался, что Берия будет хвалить все: и работу ЦК, и книгу Сталина. А меня, я так понял, хотел испытать.
Обдумав все это, я решил не давать оружия в его руки, чтобы отсечь меня от руководства. … мое выступление на XIX съезде партии было дипломатическим ходом: не расходиться с руководством партии, с Политбюро, которое одобрило эту книгу.
На следующий день после окончания работы XIX съезда партии, 15 октября 1952 г., был назначен Пленум вновь избранного ЦК партии.
На съезде по предложению Сталина было решено вместо Политбюро ЦК иметь Президиум ЦК. Состав Пленума ЦК (членов и кандидатов), а также состав Президиума в количестве 25 человек обсуждался, как обычно, с участием Сталина и всех членов и кандидатов Политбюро. При подборе кандидатур Сталин настоял на том, чтобы ввести новые кандидатуры из молодой интеллигенции, чтобы этим усилить состав ЦК.
Предлагая вместо Политбюро, обычно состоявшего из 9-11 членов, Президиум из 25 человек, Сталин, видимо, имел на это какие-то свои планы, потому что Президиум из 25 человек совершенно неработоспособен хотя бы потому, что не сможет собираться раз в неделю или чаще для решения оперативных вопросов.
При таком широком составе Президиума, в случае необходимости, исчезновение неугодных Сталину членов Президиума было бы не так заметно. Если, скажем, из 25 человек от съезда до съезда исчезнут пять-шесть человек, то это будет выглядеть как незначительное изменение. Думаю так потому, что приблизительно за год до съезда однажды за ужином, поздно ночью, после какого-то моего острого спора со Сталиным, он, нападая на меня (обычно в такие моменты он стоял), будучи в возбужденном состоянии, что не часто с ним бывало, глядя на меня, но имея в виду многих, резко бросил: «Вы состарились, я вас всех заменю!»
Мы подумали, что это случайно сказанные им слова, а не обдуманная и серьезная идея, и вскоре о них забыли. А вот когда такой большой Президиум был создан, мы невольно подумали, что возможно Сталин имел в виду необходимость замены старых членов Политбюро молодыми, которые вырастут за это время, и он легче сможет заменить того, кого захочет убрать.
Вопрос о выборах Президиума ЦК, куда вошли все старые члены Политбюро и новые товарищи, был встречен нормально, ничего неожиданного не было. Неожиданное было после. Сталин сказал, что имеется в виду из членов Президиума ЦК образовать Бюро Президиума из девяти человек и стал называть фамилии, написанные на маленьком листочке. Ни моей фамилии, ни Молотова среди названных не было. Затем с места, не выходя на трибуну, Сталин сказал примерно следующее: «Хочу объяснить, по каким соображениям Микоян и Молотов не включаются в состав Бюро». Начав с Молотова, сказал, что тот ведет неправильную политику в отношении западных империалистических стран — Америки и Англии. На переговорах с ними он нарушал линию Политбюро и шел на уступки, подпадая под давление со стороны этих стран. «Вообще, — сказал он, — Молотов и Микоян, оба побывавшие в Америке, вернулись оттуда под большим впечатлением о мощи американской экономики. Я знаю, что и Молотов и Микоян — оба храбрые люди, но они, видимо, здесь испугались подавляющей силы, какую они видели в Америке».
Это выступление Сталина члены Пленума слушали затаив дыхание. Никто не ожидал такого оборота дела.
* * *
Обычно 21 декабря, в день рождения Сталина, узкая группа товарищей членов Политбюро без особого приглашения вечером, часов в 10-11, приезжала на дачу к Сталину на ужин. Без торжества, без церемоний, просто, по-товарищески поздравляли Сталина с днем рождения — без речей и парадных тостов. Немного пили вина.
Я подумал: если не пойти, значит, показать, что мы изменили свое отношение к Сталину, потому что с другими товарищами каждый год бывали у него и вдруг прерываем эту традицию.
Поговорил с Молотовым, поделился своими соображениями. Он согласился, что надо нам пойти, как обычно. Потом условились посоветоваться об этом с Маленковым, Хрущевым и Берия. С ними созвонились, и те сказали, что, конечно, правильно мы делаем, что едем.
21 декабря 1952 г. в 10 часов вечера вместе с другими товарищами мы поехали на дачу к Сталину. Сталин хорошо встретил всех, в том числе и нас. Сидели за столом, вели обычные разговоры. Отношение Сталина ко мне и Молотову вроде бы было ровное, нормальное.
Но через день или два то ли Хрущев, то ли Маленков сказал: «Знаешь, что, Анастас, после 21 декабря, когда все мы были у Сталина, он очень сердился и возмущался тем, что вы с Молотовым пришли к нему в день рождения. Он стал нас обвинять, что мы хотим примирить его с вами, и строго предупредил, что из этого ничего не выйдет: он вам больше не товарищ и не хочет, чтобы вы к нему приходили».
За месяц или полтора до смерти Сталина Хрущев или Маленков мне рассказывал, что в беседах с ним Сталин, говоря о Молотове и обо мне, высказывался в том плане, что якобы мы чуть ли не американские или английские шпионы.
Сначала я не придал этому значения, понимая, что Сталин хорошо меня знает, что никаких данных для того, чтобы думать обо мне так, у него нет: ведь в течение 30 лет мы работали вместе. Но я вспомнил, что через два-три года после самоубийства Орджоникидзе, чтобы скомпрометировать его, Сталин хотел объявить его английским шпионом. Это тогда не вышло, потому что никто его не поддержал. Однако такое воспоминание вызвало у меня тревогу, что Сталин готовит что-то коварное. Я вспомнил также об истреблении в 1936-1938 гг. в качестве «врагов народа» многих людей, долго работавших со Сталиным в Политбюро.
За две-три недели до смерти Сталина один из товарищей рассказал, что Сталин, продолжая нападки на Молотова и на меня, поговаривает о скором созыве Пленума ЦК, где намерен провести решение о выводе нас из состава Президиума ЦК и из членов ЦК.
По практике прошлого, стало ясно, что Сталин хочет расправиться с нами и речь идет не только о политическом, но и о физическом уничтожении.
Можно сказать, что мне повезло в том смысле, что у Сталина обострилась болезнь.
В начале марта 1953 г. у него произошел инсульт, и он оказался прикованным к постели, причем его мозг был уже парализован. Агония продолжалась двое суток.
* * *
После смерти Сталина ко мне стали поступать просьбы членов семей репрессированных о пересмотре их дел. Многие обращались через Льва Степановича Шаумяна. Он же привел ко мне Ольгу Шатуновскую, которую я знал с 1917 г., и Алексея Снегова, знакомого мне с 30-х гг. Они на многое мне открыли глаза, рассказав о своих арестах и применяемых при допросах пытках, о судьбах десятков общих знакомых и сотнях незнакомых людей. Я помог Шатуновской и Снегову встретиться с Хрущевым, который Ольгу знал еще со времен работы в МК, а Снегова — еще раньше.
Я направлял все эти просьбы Генеральному прокурору Руденко. Меня удивляло: ни разу не было случая, чтобы из посланных мною дел была отклонена реабилитация.
Как я говорил, мы очень были дружны с Л.С.Шаумяном. У нас были общие взгляды по многим вопросам, и мы неограниченно доверяли друг другу. Как-то я попросил его (это, правда, было не сразу, а примерно за полгода до XX съезда) составить две справки. Первую — сколько было делегатов на XVII съезде, вошедшем в историю как «съезд победителей», и сколько из них подверглось репрессиям. Ведь это был 1934 г., когда на съезде не было уже антипартийных группировок, разногласий, было полное единство в партии. Поэтому важно было посмотреть, что стало с делегатами этого съезда. И вторую справку — это список членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на этом съезде, а затем репрессированных. Он работал в издательстве Энциклопедии, имел доступ к таким материалам и мог предоставить мне необходимые справки. Через месяц или полтора он предоставил мне эти сведения. Картина была ужасающая. Большая часть делегатов XVII партсъезда и членов ЦК была репрессирована.
Это потрясло меня. Несколько дней из головы не шла мысль об этом, все обдумывал, как это происходило, почему Сталин это сделал в отношении людей, которых хорошо знал.
Я пошел к Хрущеву и один на один стал ему рассказывать. Мне пришлось убеждать его, что самый важный вопрос — осуждение сталинского режима. «Вот такова картина, — говорил я. — Предстоит первый съезд без участия Сталина, первый после его смерти. Как мы должны себя повести на этом съезде касательно репрессированных сталинского периода? Кроме Берия и его маленькой группы — работников МВД, мы никаких политических репрессий не применяли уже почти три года. Но надо ведь когда-нибудь если не всей партии, то хотя бы делегатам первого съезда после смерти Сталина доложить о том, что было. Если мы этого не сделаем на этом съезде, а когда-нибудь кто-нибудь это сделает, не дожидаясь другого съезда, все будут иметь законное основание считать нас полностью ответственными за прошлые преступления.
Конечно, мы несем большую ответственность. Но мы можем объяснить обстановку, в которой мы работали. По крайней мере, скажут, что мы поступили честно, по собственной инициативе все рассказали и не были инициаторами этих черных дел. Мы свою честь хотя бы в какой-то мере отстоим. А если этого не сделаем, мы будем обесчещены».
Хрущев согласился с этим. Предложил во главе комиссии поставить Поспелова, директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Я с этим согласился, хотя сказал, что Поспелову нельзя всецело доверять, ибо он был и остается просталински настроенным.
Комиссия в составе Поспелова, Аристова, Шверника и Комарова тщательно изучила в КГБ архивные документы и представила пространную записку.
В записке комиссии от 9 февраля 1956 г. приводились ужаснувшие нас цифры о числе советских граждан, репрессированных и расстрелянных по обвинению в «антисоветской деятельности» за период 1935-1940 гг., и особенно в 1937-1938 гг. В записке указывалось, что в ряде крайкомов, обкомов, райисполкомов партии были подвергнуты арестам две трети состава руководящих работников.
Более того, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно за эти годы 98 человек. «Поражает тот факт, — говорилось в записке, — что для всех преданных суду членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) была избрана одна мера наказания расстрел». Всего же из 1966 делегатов этого съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1108 человек, из них расстреляно 848. Факты были настолько ужасающими, что в особенно тяжелых местах текста Поспелову было трудно читать, один раз он даже разрыдался.
Когда я в 1956 г. внимательно ознакомился с этой запиской комиссии, то невольно вспомнил два ранее известных мне факта:
1. При выборах членов ЦК на XVII съезде партии (февраль 1934 г.) Сталин получил изрядное количество голосов против. Подсчет голосов велся в нескольких счетных подкомиссиях. Одну из них возглавлял Наполеон Андреасян, мой школьный товарищ, который тогда же рассказал мне об этом. Только в его группе оказалось 25 голосов поданных против кандидатуры Сталина.
Результаты голосования на съезде не объявлялись. Но о них несомненно доложил Сталину председатель счетной комиссии съезда Л.Каганович.
Насколько я помню, против Сталина было 287 голосов (данные О.Шатуновской, которая лично держала эти бюллетени в руках и пересчитала в 1950-х годах).
2. Через какое-то время, после XVII съезда партии, нам, членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК, стало известно о том, что группа товарищей, недовольная Сталиным, намеревается его сместить с поста Генсека, а на его место избрать Кирова. Об этом Кирову сказал Б.Шеболдаев, работавший тогда секретарем одного из обкомов партии на Волге. Киров отказался и рассказал Сталину, который поставил в известность об этом Политбюро. Нам казалось тогда, что Сталин этим и ограничится.
Мы утвердили все выводы комиссии Поспелова без изменений. Но она не внесла предложений по вопросу об открытых судебных процессах 30-х гг., заявив, что не сумела разобраться, и что ей это трудно сделать. Видимо, решили подстраховаться, потому что после всех изложенных фактов эти процессы просто разваливались... Тогда Хрущев предложил создать новую комиссию — специально по открытым судебным процессам, включив туда, кроме уже работавших членов, также Молотова, Кагановича и Фурцеву. Мою кандидатуру он почему-то даже не назвал.
Через некоторое время новая комиссия представила предложения в том смысле, что, хотя в те годы не было оснований обвинить Зиновьева, Каменева и других в умышленной подготовке террора против Кирова, они все же вели идеологическую борьбу против партии и пр. Поэтому, делала вывод комиссия, не следует пересматривать эти открытые процессы.
К концу съезда мы решили, чтобы доклад был сделан на заключительном его заседании. Был небольшой спор по этому вопросу. Молотов, Каганович и Ворошилов сделали попытку, чтобы этого доклада вообще не делать. Хрущев и больше всего я активно выступили за то, чтобы этот доклад состоялся. Маленков молчал. Первухин, Булганин и Сабуров поддержали нас.
* * *
Я возглавил Комиссию по реабилитации. Очень скоро пришел к выводу, что такими темпами, которыми шло дело через Генеральную прокуратуру, сотни тысяч людей умерли бы в лагерях, не дождавшись освобождения. Сначала в частном порядке поговорил с А.В.Снеговым, который после 17-летнего заключения в лагерях работал начальником политотдела ГУЛАГа. Он подтвердил мое мнение. Мы решили, что надо освобождать людей, во-первых, на местах, разослав туда «тройки» (на этот раз с целью освобождения, а не осуждения), во-вторых, производить реабилитацию с немедленным освобождением прямо по статьям, которые заключенному инкриминировались. В результате мы послали, кажется, 83 комиссии в наиболее крупные поселения ГУЛАГа. Туда же привозили заключенных с мелких объектов этой структуры. Всю организационную работу в этом отношении провел для меня Снегов, который хорошо знал географию лагерей. Так мы добились, что сотни тысяч людей были освобождены немедленно. Даже возникла необходимость в дополнительных пассажирских поездах.
Отмене приговоров по процессам, как я упомянул, помешали Молотов и Поспелов. Поспелов не дал необходимых материалов. Молотов повел себя хитрее: он сказал, что, хотя нет доказательств вины Зиновьева, Каменева и их сторонников в убийстве Кирова, морально-политическая ответственность остается на них, ибо они развернули внутрипартийную борьбу, которая толкнула других на террористический акт.
Ошибка была сделана и в подборе состава комиссии: главой ее сделали Молотова. Я все-таки верил, что Молотов отнесется к этому делу честно. И ошибся, проявил в отношении его наивность. Не думал, что человек, чья жена была безвинно арестована и едва не умерла в тюрьме, способен продолжать прикрывать сталинские преступления.
Из книги Абдурахмана Авторханова
ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА
http://loveread.ec/view_global.php?id=1217
(Сокращено)
«ВЕРХОВНЫЙ» ДЕЗЕРТИР
Гитлеровское нападение было спровоцировано самим Сталиным. Организовав великую инквизицию против народов, уничтожив весь руководящий состав партии, государства и Красной Армии, заключив антизападный пакт с Гитлером, Сталин прямо-таки пригласил его к нападению на СССР.
22 июня 1941 года вечером Сталин ворвался в здание Министерства обороны СССР и начал разносить площадной бранью всю Красную Армию как армию предателей и трусов. После этого краткого «налета» на Министерство обороны он в панике удрал в свою подмосковную крепость, которая почему-то называлась дачей. На экстренное совместное заседание Политбюро, Совета Министров и Верховного Совета 22 июня 1941 года, созванное через несколько часов после начала войны, он явиться отказался.
Целой толпе «верных соратников и учеников Сталина» ничего не оставалось, как вместе с Генеральным штабом отправиться на его дачу в Кунцево. Тут же на импровизированном заседании Политбюро и правительства Сталину предложили выступить с обращением к народу, партии, армии об организации обороны против гитлеровских агрессоров. Сталин наотрез отказался (тогда это обращение поручили Молотову). Сталину предложили как председателю правительства возглавить Главное командование Красной Армии. Сталин наотрез отказался (тогда это поручили маршалу Тимошенко).
По законам военного времени Сталин заслуживал как дезертир и предатель родины расстрела.
Убедить Сталина, что гитлеровская тактика блицкрига хороша в странах без тыла, но не в такой гигантской стране, как СССР, было невозможно. Хрущев сообщил, что ему рассказал Берия после визита к Сталину. На настойчивый призыв Берия взять руль войны в свои руки Сталин ответил: «Все потеряно. Я сдаюсь».
Настолько Сталин потерял голову. Если Сталин не потерял ее и физически, то лишь потому, что во главе армии не оказалось людей, ставивших интересы страны выше своей карьеры. Молодые же командиры, как Жуков, Говоров, Еременко, Чуйков, и даже те, которые были направлены в действующую армию прямо из концлагерей, как Горбатов, Мерецков, Рокоссовский, были настолько загипнотизированы мифом о величии Сталина, что в их головы не приходила мысль о наказании первого дезертира страны. К тому же они мало знали о том, как функционирует преступная машина власти Сталина, и отгораживались от «высокой политики» традиционной формулой: «Мы — солдаты, а не политики».
Бои, битвы, сражения и войну выиграли они, а не Сталин, но обратите внимание: сразу же после победы все успехи своего стратегического и даже оперативного искусства они приписывают Верховному (легенда о «десяти сталинских ударах»). Однако сам начальник Генерального штаба времен войны маршал Василевский засвидетельствовал (уже при Брежневе), что более или менее квалифицированно руководить войной Сталин стал только с весны 1943 года, в ходе сражения под Курском. Стало быть, его руководство Сталинградской битвой — легенда кинорежиссеров.
Формально Верховным Главнокомандующим был Сталин, фактически — его первые заместители: по армии — Жуков, по войскам НКВД — Берия. Политически Ставка находилась в руках Берия и Маленкова. Без их разрешения не только главнокомандующие фронтов, но и члены Политбюро, входившие в состав военных советов фронтов (Хрущев, Жданов, Булганин), не имели права непосредственно связываться со Сталиным.
Надо хорошо знать психологию Сталина, чтобы понять, почему после победоносного окончания войны свои первые удары он нанес как раз этим трем организаторам победы — Берия (освобожден от непосредственного руководства НКВД), Маленкову (отправлен в Туркестан), Жукову (отправлен командовать округом).
Cудьба Сталина и в послевоенное время находилась бы в руках триумвирата (Берия — Маленков — Жуков) времен войны, если бы он их не отстранил от непосредственного оперативного руководства полицией, партией, армией.
«ВНУТРЕННИЙ КАБИНЕТ» СТАЛИНА
Одной из основ тирании Сталина был его необыкновенный инстинкт самосохранения, выражавшийся в безошибочном подборе личных сотрудников и личной охраны… Сталин самолично комплектовал свой штаб. Работник, подобранный по признакам, только одному Сталину ведомым, проходил свой испытательный стаж по заданиям Сталина и под его непосредственным наблюдением. Тот, кто выдерживал это испытание, навсегда входил в «живой инвентарь» внутреннего кабинета» Сталина. Опираясь на этот «кабинет», Сталин и захватил «необъятную власть», о которой Ленин пишет в своем «Завещании».«Внутренний кабинет», названный во внутрипартийных документах секретариатом т. Сталина, поначалу возглавлял старый революционер Иван Петрович Товстуха…
На X съезде партии (март 1921) Ленин ввел «осадное положение» (запрещение групп или фракций, запрещение критики аппарата ЦК и линии Политбюро), и весь старый Секретариат ЦК (Крестинский, Преображенский, Серебряков), поддержавший во время профсоюзной дискуссии Троцкого и Бухарина против Ленина, Зиновьева, Сталина, был сменен. Секретариат возглавил сталинский выдвиженец Молотов, а его помощником Сталин рекомендовал своего секретаря Товстуху. Так Молотов и Товстуха оказались во главе аппарата ЦК за год до генсекства Сталина, вроде как бы сталинской «дозорной команды».
О Товстухе шла слава, что он произведения Ленина знает лучше, чем сам Ленин. Поэтому его назначили помощником Л. Б. Каменева по подготовке издания Собрания сочинений Ленина (согласно решению IX съезда в 1920 году). Не только все опубликованные произведения, но и весь личный архив Ленина оказался в руках Товстухи, как бы по праву «партийной национализации». Но что было в руках Товстухи, оказалось и в руках Сталина, когда через год он стал генсеком.
Пользуясь своим положением, Сталин спровоцировал Товстуху на партийно-государственное преступление, которое привело бы к суду над ними обоими, если бы Ленин был здоров. Дело касается истории получения Лениным немецких денег во время первой мировой войны. Когда Временное правительство обвинило Ленина в получении этих денег через Я. с. Ганецкого за шпионаж в пользу Германии, то Ленин уклонился от суда, заявляя, что он ничего общего не имел и не имеет с Я. с. Ганецким, который назван в сообщении прокуратуры связным между ним и немецким главным агентом в Стокгольме — доктором Парвусом… Вся партия тоже стояла на точке зрения Ленина, что Временное правительство просто в политических целях клевещет на Ленина. Правда, узкая верхушка партии знала то, что теперь знает весь мир из-за публикации архива немецкого министерства иностранных дел…
Но вот с конца 1922 года Сталин начал получать от больного Ленина плохие вести: статью об «автономизации» национальных республик, в которой он Сталина называет «великорусским держимордой», «Завещание» Ленина, в котором констатируется, что, став генсеком, Сталин «сосредоточил в своих руках необъятную власть» и что он способен ею злоупотреблять, и приписку 4 января 1923 года как предложение предстоящему XII съезду снять Сталина с поста генсека, наконец, личное письмо Сталину (март 1923-го) о разрыве с ним личных отношений (все эти документы после XX съезда напечатаны в ПСС Ленина, т. 45). Теперь Сталин точно знал, что первый день выздоровления Ленина будет последним днем его пребывания на посту генсека. Однако Сталин совсем не думает капитулировать перед Лениным. Сталин решил обороняться, наступая. Здесь как раз и пригодился Товстуха. Товстуха разыскал в личном архиве Ленина документы, которые дискредитировали лидера большевиков как немецкого агента. Таких оказалось, вероятно, много, но Сталин решил использовать именно те документы, которые разоблачают ложь Ленина, что он не только никаких денег не получал от Ганецкого, но даже и никаких связей с ним не имел. По заданию Сталина Товстуха опубликовал следующие два письма: 1) 12 апреля 1917 года Ленин пишет из Петрограда в Стокгольм Ганецкому и Радеку: «Дорогие друзья! До сих пор ничего, ровно ничего: ни писем, ни пакетов, ни денег от вас не получили… Будьте архи-аккуратны и осторожны в отношениях»; 2) 21 апреля 1917 года Ленин пишет Ганецкому: «Деньги от Козловского получены (Козловский — петроградский адвокат-большевик, связной между фирмами-разведками Стокгольм-Петроград. — А.А.)… В общем выходит около 15 большевистских газет» (это отчет деньгодателю. — А.А.). Эти два письма были опубликованы, конечно, без ведома Ленина, в журнале «Пролетарская революция» (1923, № 9, сентябрь), который редактировал сам Товстуха. Мораль публикации: вечный эмигрант, немецкий агент и лжец Ленин, который получал немецкие деньги без ведома партии и ее ЦК в России, хочет ликвидировать постоянного организатора и руководителя подпольного большевистского ЦК в России — Кобу-Сталина. Разумеется, публикация вызвала бурю негодования Ленина и близких к Ленину против… Товстухи. Сталину, чтобы не раскрылась пружина всей этой антиленинской интриги, пришлось пожертвовать Товстухой. Он был уволен из ЦК, и тогда его место занял А. Н. Поскребышев.
В лице Поскребышева, бывшего помощником Товстухи, Сталин нашел более чем достойного преемника. Александр Николаевич Поскребышев почти на протяжении тридцати лет был вторым «я» Сталина. Члены ЦК и даже члены Политбюро, когда они хотели узнать, как думает или будет думать Сталин, узнавали, что же думает Поскребышев. Недаром сам Сталин называл его «Главным». Это не значит, что Поскребышев подсказывал Сталину, как действовать в той или иной ситуации, но он почти всегда безошибочно угадывал эти действия и влиял на них.
Поскребышев пришел в ЦК в то самое время, когда Сталин, став генсеком, приступил к чистке старого, троцкистского, и к созданию нового, сталинского, аппарата ЦК. Он был на двенадцать лет моложе Сталина, но уже имел значительные «заслуги»: Поскребышев, как председатель Баранчинского совдепа и член Екатеринбургского губернского совдепа, подписал приговор от 16 июля 1918 года о расстреле Николая II, его супруги и их малолетних детей. Пройдя первое революционное крещение — убийство царской семьи, — Поскребышев посвятил себя палаческой профессии: поначалу как один из руководителей политотдела Особой Туркестанской армии он занимался уничтожением «буржуазных националистов» Туркестана, а потом как председатель уездного ревкома в Златоусте и губревкома в Уфе — физическим уничтожением сибирских крестьян, поддерживавших адмирала Колчака.
Скоро выяснилось, что Поскребышев не просто каратель, а каратель с большими задатками партийного организатора. Поэтому Поскребышев был назначен заведующим орготделом Уфимского губкома партии. Вот оттуда Сталин его и забрал к себе в канцелярию ЦК…
На XX съезде Хрущев сообщил, что Сталин около себя терпел только одного человека — «своего верного оруженосца Поскребышева».
Биограф Сталина, который не поставит в центр своего анализа «внутренний кабинет» Сталина, состоявший из «секретариата т. Сталина» и «особого сектора», мало что поймет в биографии Сталина, в его восхождении к личной диктатуре, в секрете его феноменальных успехов.
«Внутренний кабинет» — выдающееся изобретение Сталина… Уникальность этого изобретения заключалась в том, что личная диктатура была замаскирована отсутствием всякого внешнего ее проявления. Члены не только ЦК, но и Политбюро не видели никакого «кабинета» у Сталина, а лишь техническую канцелярию, состоящую из самых обыкновенных технических чиновников. Однако Ленин углядел нечто большее в «канцелярии» Сталина: «т. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть» (ПСС, т. 45, с. 345–346). Размышляя над тем, как Сталин может использовать эту «необъятную власть, Ленин в упомянутом «Завещании» 4 января 1923 года предлагает снять Сталина с поста генсека. Тогда и выяснилось, что Сталин — великий мастер маскировки: члены Политбюро настолько уверовали в «серость» Сталина (Троцкий: «Сталин — выдающаяся посредственность»), что посчитали требование Ленина больной фантазией его мозга.
Идею «личного кабинета» Сталин, вероятно, позаимствовал из николаевской эпохи. Николай I, после восстания декабристов разочаровавшись в главной опоре — в дворянстве, решил опираться на бюрократию. Первым шагом было создание «личной канцелярии Его Императорского Величества» с четырьмя отделениями. Важнейшими были личное Первое отделение и Третье отделение. В Третьем отделении было сосредоточено руководство политической полицией и жандармским корпусом. Сталин, разочаровавшись в главной опоре большевизма — в старой большевистской элите, решил уничтожить ее не только политически, но и физически и создать новую опору власти из новой партийной бюрократии, которую стали потом называть партаппаратчиками. Знаменитую формулу Ленина «дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию» Сталин применил к советской России: «Кадры решают все!» Подбор этих новых кадров был поручен двум другим членам «внутреннего кабинета»: Ежову и Маленкову.
Для понимания роли «внутреннего кабинета» нужно знать, что представляли собой его две составные части: «секретариат т. Сталина» и «особый сектор» ЦК. Ни одно решение Секретариата, Оргбюро, Политбюро и пленума ЦК, ни одно решение Совета Министров, ни один указ Верховного Совета СССР не принимались без того, чтобы они не были обсуждены и предрешены в «секретариате т. Сталина». Поэтому он и был частью «внутреннего кабинета» Сталина с соответствующим штатом высококвалифицированных чиновников-экспертов как по внутренней, так и по внешней политике. Таково было «первое отделение» личной канцелярии Сталина.
Однако сталинское «третье отделение» — «особый сектор» ЦК, подчиненный тому же Поскребышеву, был, пожалуй, беспрецедентным учреждением во всей мировой истории диктатур и деспотий (достаточно упомянуть, что в «особом секторе» выдвинулись все три будущих министра госбезопасности — Абакумов, Меркулов и Серов, а также МВД — Круглов). «Особый сектор» — кодовое слово для обозначения системы служб личной политической полиции Сталина.
Впервые «особый сектор» в партийных документах упоминается в 1934 году без расшифровки его функций, но с косвенными указаниями, что это просто прежний «секретный подотдел» ЦК, переименованный теперь в «особый сектор». Но прежний «секретный подотдел» представлял собою вполне нормальную службу по личному учету кадров партии и по охранению секретных документов партии и правительства. Поскольку эти функции действительно перешли к новому сектору, а в системе партаппарата бывшие «секретные подотделы» тоже были переименованы в спецсекторы: обкомов, крайкомов и республиканских ЦК, то продолжали считать, что произошло простое переименование.
Постепенно начали выясняться и общие функции «особого сектора»: организация службы личной безопасности Сталина (охрана Кремля, охрана дач Сталина и путей к ним, медико-санитарный надзор за пищей Сталина, контроль над медико-врачебным обслуживанием Сталина), а также организация службы безопасности членов Политбюро и правительства.
Важнейшая функция «особого сектора» заключалась не столько в охране членов Политбюро и правительства от «врагов народа» (мы знаем, как «охранял» Сталин Кирова), сколько в том, чтобы охранять самого Сталина от потенциального заговора. Поэтому-то эти «руководители партии и правительства» не только были лишены права подбирать себе личную охрану, но даже их прислуга, врачи, садовники, парикмахеры назначались «особым сектором».
Стало известно и о существовании при «особом секторе» «службы перлюстрации», которая подвергала переписку членов ЦК и правительства куда более строгой цензуре, чем это делал знаменитый «Черный кабинет» Меттерниха, перлюстрировавший почту членов австро-венгерского правительства.
У «особого сектора» была своя сеть — спецсекторы обкомов, крайкомов и центральных комитетов республик. Начальники спецсекторов назначались непосредственно «особым сектором» ЦК и подчинялись, и то формально, только первым секретарям названных комитетов.
Начальник спецсектора заведовал и агентурой; агенты спецсектора на партийном языке назывались партинформаторами и занимались шпионажем против руководителей данной области или республики[2]. Еще одна деталь — обязанности протокольного секретаря на заседаниях бюро обкомов всегда выполнял начальник спецсектора. Таким образом, шпионская служба «особого сектора» в центре дополнялась шпионской службой спецсекторов на местах. Под надзором были и «большие вожди», и областные. «Особому сектору» практически подчинялась и шпионская сеть в армии (особые отделы и политотделы и даже начальники секретно-политических отделов НКВД).
Такой идеально организованный шпионаж среди элиты партии давал Сталину возможность, где бы он ни находился, точно и достоверно знать, что думает и чем занят любой его «соратник» в центре или любой сатрап в провинции…
Сталин был «профессиональным революционером» по рецепту Ленина, а Ленин на вопрос «что делать?», чтобы «профессиональные революционеры» в условиях русского полицейского режима могли действовать успешно, отвечал: «профессиональные революционеры» партии должны превосходить по мастерству конспиративной техники своего врага — русскую тайную полицию. Сталин-Коба и был таким «профессиональным революционером». Он доказал свое превосходство над полицией на деле как непосредственный организатор вооруженных грабежей на Кавказе (эксов), в том числе и знаменитого вооруженного ограбления Тифлисского казначейства средь бела дня, со многими убитыми и ранеными (1907). В результате этого грабежа Коба-Сталин направил за границу, в кассу Ленина, более 300 тысяч рублей. Даже после того, как непосредственный помощник Сталина по этим грабежам армянин Камо и ряд других участников были арестованы, Сталин остался вне подозрения. Это и означало: владеть полицейской техникой лучше, чем сама русская полиция владела ею.
Вполне естественно, что во главе всей конспиративной техники большевистской партии в России, как член ее ЦК с 1912 года, стоял Сталин. Столь же естественно, что Сталин был единственным членом Политбюро ЦК, введенным накануне октябрьского переворота в состав конспиративного центра восстания — «Военно-революционного центра». После успешного переворота этот центр был переименован во Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК). Сталин остался в составе ее руководящей коллегии как представитель ЦК. Ее номинальный председатель Дзержинский и его помощники — Менжинский, Ягода, Лацис, Бокий — были ставленниками Сталина. С первых же дней создания этого страшного учреждения и до своей смерти Сталин не выпускал его из своих рук.
Поскольку Сталин свою личную безопасность отождествлял с безопасностью государства, то он и пришел к выводу, что прочность советской системы правления — следствие прочности и неуязвимости его личной власти. Отсюда — идея организации личного кабинета Сталина как легального органа в системе ЦК под невинным названием «секретариат т. Сталина». Но легальный орган, превращенный в руководящий политический механизм, стал постепенно нелегальным: во-первых, по уставу партии, во-вторых, потому, что, будучи на бумаге техническим органом аппарата ЦК, он на деле был поставлен и над ЦК, и над государством. Это случилось не в один день. Процесс превращения этой технической канцелярии Сталина в надпартийную силу продолжался пятнадцать лет (1922–1937).
Во время войны, когда Сталин, охваченный паникой, отказался на время от всякой власти, пострадал и «внутренний кабинет», а Политбюро и Секретариат ЦК вновь приобрели свою старую уставную власть. Но после перелома и победоносного окончания войны Сталин решил вернуться к старой практике правления. Однако он очень скоро убедился, что это не так просто и едва ли осуществимо в прежнем масштабе: во-первых, из-за Берия и Маленкова, во-вторых, из-за послевоенной атмосферы и прихода новых людей, которые выросли в войне и из войны. Но Сталин не был бы Сталиным, если бы не решился это сделать, хотя и в другой форме и окольными путями.
Сталин временно перенес центр тяжести с институции («внутренний кабинет») на личности. Он снимал с руководящих постов в государстве «политиков» и полководцев первого ранга (хотя и преданных ему, но видевших его во время паники и дезертирства), заменяя их «неличностями», лишенными всяких политических и бонапартистских амбиций. Что будут думать о нем лишенные власти военные лидеры — Сталина мало беспокоило, а чтобы «политики» не «взбунтовались», но и не могли сосредоточить в своих руках хоть какую-нибудь власть, Сталин, назначал их своими «заместителями» по правительству (иначе говоря, делал их министрами без портфелей). Вот после этого Сталин начал постепенно восстанавливать власть «внутреннего кабинета». Два человека вновь приобретают свое былое значение: генерал-лейтенант А. Н. Поскребышев и генерал-лейтенант Н. с. Власик. Посторонняя сила могла подкрасться к Сталину только через кризис этой идеальной службы его личной безопасности. Иначе говоря, никто не мог бы убрать Сталина раньше, чем не уберет этих двух лиц. Но убрать их тоже никто не мог, кроме самого Сталина.
БЕРИЯ — МАРШАЛ ЖАНДАРМЕРИИ
В училище, которое Берия окончил в 1915 году в возрасте шестнадцати лет, за ним прочно закрепилась кличка Сыщик, которой он гордился. История этой клички ярко рисует будущего шефа советской тайной полиции. В училище часто случались разные кражи, у учителей исчезали портмоне, папки, у учеников разные мелочи. И Лаврентий за определенную мзду начинал розыск и почти всегда находил украденное. Неудивительно: в большинстве случаев он сам и крал…
Берия был всегда первым учеником. Особенно выдающимися были его способности в точных науках. Однако полицейско-сыскные способности Берия вовсю развернулись лишь после переезда в Баку. Он поступил в Бакинское техническое училище, которое окончил с отличием, получив звание дипломированного техника-архитектора.
Бакинские годы Берия предопределили его головокружительную полицейскую карьеру сразу в четырех разведках — советской, мусаватистской, турецкой и английской…, но все еще не выяснен главный вопрос: служил ли Берия «из любви к профессии» или по заданию Чека?
Копии информации, которую Берия давал Багирову для мусаватистской разведки, Багиров переправлял и в штаб 10-й Красной армии в Царицыне. В штабе армии обратили внимание на исключительную ценность этой информации и предложили Багирову «специализировать» Берия по чисто военной разведке. Вскоре Берия вызвали к резиденту Чека и ЦК в Баку Микояну…
Микояна и Берия объединяло только одно: их непостижимый врожденный нюх карьеристов и граничащий с гениальностью дар сыщиков в политике…
Предсмертное политическое завещание Ленина снять Сталина с поста, его статья об «автономизации», его письмо Буду Мдивани против Сталина и предполагаемый суд над ним и Орджоникидзе во многом были продиктованы требованием старых грузинских большевиков. Последние были убеждены, что если им удастся при помощи Ленина довести Сталина и Орджоникидзе до суда, то тем не миновать расстрела: обоим вменялись в вину не только политические, но и уголовные преступления — такие, как убийство в 1922 году старого большевика, руководителя вооруженного грабежа Тифлисского казначейства в 1907 году в пользу Ленина Камо (Тер-Петросяна).
Но Ленин умер, не успев расправиться со Сталиным (некоторые из старых грузинских большевиков полагали, что Сталин отравил его), а их друг Троцкий сам оказался в опале. У Сталина была не только хорошая память, но и редкое терпение. Через десять лет Сталин руками Берия ликвидировал всех грузинских «национал-уклонистов», почти весь состав правительства был пропущен через инсценированный суд, и все до единого расстреляны. Вот тогда Берия и назначили секретарем Компартии Грузии, а потом и секретарем Заккрайкома…
ДВА ВРЕМЕНЩИКА — МАЛЕНКОВ И ЖДАНОВ
Постоянное и непосредственное руководство партией во время войны, единоличное распределение высших партийных, полицейских, военных кадров сделало Маленкова фактически первым секретарем ЦК после Сталина. Таким образом, он стоял одновременно и над членами Политбюро, не будучи сам ни его членом, ни даже кандидатом.
Жданов, сделанный из одного с Маленковым теста, пользующийся таким же доверием у Сталина, хорошо знал, что сесть в кресло первого секретаря ему удастся, только если он сможет ловко и бесшумно столкнуть с него Маленкова. Задача эта не была легкой, но недаром Жданов любил так часто повторять знаменитую формулу Сталина: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики».
Жданов, прекрасно разбиравшийся в психологии Сталина, обвинил Маленкова в преступном легкомыслии, приведшем к развалу советского «атомного шпионажа» в связи с бегством Гузенко из советского посольства в Канаде (из разоблачения в печати Гузенко стало известно, что все сообщения и информация по «атомному шпионажу» посылались лично на имя Маленкова, кроме того, лица для такой секретной работы тоже подбирались непосредственно канцелярией Маленкова). Вторая атака против Маленкова, рассчитанная на использование патологической подозрительности Сталина, обещала еще больший успех… Жданов начал уверять Сталина, что протеже Маленкова — маршал Жуков — метит в русские Бонапарты. Донос запал в душу Сталина. Он сам часто задумывался над непонятной ему личностью своенравного маршала, внимательно читал участившиеся в западной прессе пророчества о будущем Русском Бонапарте, повторяя про себя, что «нет дыма без огня»…
ПОДГОТОВКА НОВОЙ «ВЕЛИКОЙ ЧИСТКИ»
После смерти Жданова ждановщина получила другой псевдоним: сусловщина… Перед Сусловым Сталин поставил задачу поднять ждановщину на следующую ступень. Это означало переход от разоблачений «космополитов» и «низкопоклонников» к разоблачению новых «врагов народа»: ученых-«вредителей» во всех науках, «правых оппортунистов», «сионистов» и «буржуазных националистов» по всей стране. Под какую-нибудь из этих категорий мог быть подведен любой гражданин СССР — от члена Политбюро до рядового колхозника. Это означало переход от устрашения к устранению «врагов народа»…
Догадываться, что на верхах идет разгром и пока что летят головы одних ленинградцев, учеников Жданова, партия начала после мартовской сессии Верховного Совета СССР в 1949 году. Надо было соблюсти внешнюю легальность, и поэтому на сессии как бы в рабочем порядке сообщили, что 5 марта 1949 года Вознесенский освобожден от должности. Заодно освобождены и его соратники…
Последний раз Вознесенского и Кузнецова видели среди членов Политбюро 22 января 1949 года на вечере памяти Ленина. Только после разоблачения преступлений Сталина стало известно, что Вознесенский был расстрелян 30 сентября, а остальные во главе с Кузнецовым — 1 октября 1950 года.
Берия и Маленков не успокоились на том, что убрали с пути Жданова и ждановцев. Чтобы обеспечить свое монопольное положение при Сталине, надо было нанести удар и бывшим союзникам Жданова, то есть оторвать Сталина от всей его «старой гвардии» (Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Андреев).
Могло казаться на первый взгляд, что Берия и Маленков берутся за безнадежное дело, — но они за него взялись столь основательно, а их мастерство в применении «сталинской диалектики» оказалось столь высокого класса, что Сталин скоро начал допускать недопустимое: Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович, Андреев могут быть орудием сионистского заговора против него, даже больше — они могут быть англо-американскими шпионами.
Однако Сталин мыслил по-своему весьма логично: если он сам прибегал к поддержке царской полиции в борьбе с соперниками (например, с Шаумяном), если Ленин получал деньги от немецкой разведки для развала России, то почему ученики Ленина и Сталина не могут сейчас делать то же самое?
Прямым результатом начавшихся подозрений Сталина было искусственно созданное «сионистское дело» Лозовского, Михоэлса и других. Как еврейки, замешанные в это дело, были арестованы жены Молотова, Андреева, вдова Калинина. Жен других членов Политбюро тоже начали таскать на допросы МГБ как подруг Молотовой (Полины Жемчужиной).
По словам Хрущева, само дело возникло из-за простого предложения Советскому правительству со стороны Антифашистского еврейского комитета (при Совинформбюро) во главе с Михоэлсом (народный артист СССР) о создании в Крыму Еврейской автономной советской республики. Сталин решил, что это попытка оторвать Крым от СССР и поставить его под контроль Америки.
Чтобы не вызвать шум на Западе, особенно в Америке, Сталин предпочел самого Михоэлса не арестовывать, а имитировать автомобильную катастрофу (метод уже испытанный: в Тифлисе в 1922 году так был ликвидирован Камо, а в Ленинграде в 1934 году — охранники Кирова). Михоэлс был убит на дороге под Минском…
«Сионистское дело» кончилось тем, что 10 августа 1952 года член ЦК, заместитель министра иностранных дел СССР, председатель Совинформбюро Лозовский и еще двадцать видных еврейских деятелей культуры и искусства были расстреляны. Жена Молотова отделалась ссылкой в Казахстан.
В непосредственной связи с «делом сионистов» находится и снятие в марте 1949 года Молотова с поста министра иностранных дел и Микояна с поста министра внутренней и внешней торговли СССР.
Если разгром «врагов народа» в партии все еще происходил в глубокой тайне (даже членам Политбюро было запрещено сообщать кому-либо об аресте их жен), то разгром «идеологических вредителей» среди ученых и писателей велся открыто. Под непосредственным руководством Суслова не только на всех участках идеологического фронта продолжались «разоблачения», начатые Ждановым (литература и искусство, философия), но «зоны боевых действий» еще и расширялись. Развернулись новые «дискуссии» (на самом деле в них участвовала только одна сторона — партийные ортодоксы, бичующие мнимых вредителей), которые очень скоро превратились в идеологические чистки: в физиологии — против учеников академика Павлова, в языкознании — против учеников академика Марра, в генетике — против врагов шарлатана Лысенко, в политэкономии — против друзей Вознесенского.
УДАР ПО ВОТЧИНЕ БЕРИЯ
Берия, знавший все фибры души (или бездушия) Сталина, допустил еще одну непростительную для него психологическую оплошность: новое руководство Грузии начало раздувать культ Берия, тогда как культ для всех должен был быть один — Сталина…
Коэффициент его [Сталина] доверия к людям, даже самым близким, равнялся нулю, если в их действиях он не видел непосредственной выгоды для себя. Этой выгоды Сталин и не видел в действиях Берия в Грузии, а потому решил лично взяться за ее новую чистку. Он ее провел без Берия, ибо она была чисткой против Берия. Так возникло последнее «грузинское дело» Сталина.
Сталин знал, что для этой операции министр госбезопасности Абакумов не подходит. По рассказам Хрущева, Абакумов любой шаг и даже прямое распоряжение Сталина прежде всего согласовывал с Берия. Ясно, он мог бы выдать Берия все сталинские планы. Поэтому Сталин заменил его старым партаппаратчиком С. Д. Игнатьевым, которого и направил в Грузию с чрезвычайными полномочиями и целым эшелоном чекистов, чтобы арестовать всех друзей Берия в руководстве республики, ее областей и даже некоторых пограничных с Турцией районов.
По масштабу Грузии эта новая чистка в ноябре 1951 года превзошла даже «великую чистку» 1937–1938 годов… По этому «делу» были арестованы не только грузинские личные друзья Берия, но и весь актив партии из Мингрелии, а поэтому и само «дело» называлось в партийных документах «мингрельским»… Массовые аресты были произведены также среди рядовых партийцев и беспартийных, особенно среди интеллигенции…
По примеру 30-х годов при Министерстве госбезопасности Грузии была создана чрезвычайная тройка (состав: председатель — Рухадзе, члены — первый секретарь ЦК Мгеладзе и главный прокурор республики). Ей были даны права заочно приговаривать людей к расстрелу или к заключению до двадцати лет. Через эту тройку были пропущены тысячи людей. Но чистка на этом не кончилась, она лишь вступила в новую, самую ответственную фазу, призванную решить судьбу самого Берия.
После «грузинского дела» Берия знал, что Сталин готовит ему судьбу Менжинского, Ягоды и Ежова. Когда-то гениальный, но к концу жизни притупившийся криминальный ум Сталина начал давать осечки: он повторяет старые уголовные трюки 30-х годов, так досконально изученные, а иногда и подсказанные тем же Берия.
РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ПОЛИТБЮРО И СТАЛИНЫМ
Берия и Маленков великолепно научились читать затаенные мысли Сталина и разгадали весь его стратегический план. А тогда произошло то, что Сталин считал абсолютно исключенным: по инициативе Берия и Маленкова члены Политбюро пришли к спасительному для них компромиссу и заключили оборонительный союз против замыслов Сталина. Результатом этого союза и было решение Политбюро созвать августовский пленум ЦК (1952) и назначить на нем созыв съезда партии.
По формально действующему уставу партии съезды ее должны были созываться не реже одного раза в три года. Последний съезд был до войны — в марте 1939 года. Сталин, охотно соглашаясь на аккуратное проведение выборов в советский лжепарламент, никак не соглашался на выборы нового ЦК на очередном съезде партии. Так было пропущено более четырех сроков созыва съезда.
Трудно найти другую причину несозыва съезда, кроме боязни Сталина, что «ученики» в рамках устава легально лишат его единоличной власти. Опасения его не были беспочвенными. После «ленинградского дела» Сталин начинает терять контроль над аппаратом партии и полиции в той же мере, в какой растет там влияние Маленкова и Берия…
Сталин не хотел никакого съезда партии, пока не проведена намеченная вторая «великая чистка», — в этом сомневаться не приходится (XVIII съезд тоже был созван только после первой «великой чистки» в 1939 году). Поэтому инициатором созыва съезда он быть не мог…
Да, конечно, объявление о созыве съезда и его повестке дня было опубликовано за подписью одного генерального секретаря ЦК — Сталина. Но так делалось всегда. Самым поразительным был беспрецедентный факт: впервые за время сталинского правления политический отчет ЦК делал не Сталин, а Маленков.
Это сразу вызвало недоумение: что произошло? Либо Сталин нездоров, либо он намеренно выдвинул главным политическим докладчиком ЦК избранного им кронпринца. Только потом мы узнали, что оба предположения были ложными. Сталин был здоров… И в кронпринцы Сталин никого не намечал, хорошо зная всю опасность такого предприятия.
Остаются два других предположения: либо Сталин отказался делать доклад на съезде, организованном и созванном вопреки его воле, либо Политбюро, не разделявшее теперь многие из практических предложений и мероприятий Сталина, решило поручить доклад Маленкову, открытие съезда — Молотову, закрытие — Ворошилову.
После XIX съезда, во время первого организационного пленума нового ЦК, Сталин обвинил Молотова в шпионаже в пользу Америки и Ворошилова в шпионаже в пользу Англии, а их жены-еврейки по тем же обвинениям уже сидели в подвалах Лубянки.
Спрашивается, как мог Сталин оказать такой почет тем, кого он в конце того же съезда собирался разоблачить как шпионов? Таких чудес не бывало даже в империи Сталина. Ясно, что они были выдвинуты не Сталиным, а Политбюро в результате вышеупомянутого «исторического компромисса», как ясно и то, что от расправы Сталина их спас партийно-полицейский аппарат во главе с Маленковым — Берия.
Тот, кто думает, что Сталину было все подвластно, что стоило ему только «пошевелить мизинцем» — и все его враги взлетят на воздух, забывает, что власть Сталина основывалась на абсолютном повиновении непосредственных возглавителей машины властвования. Они теперь вышли из повиновения. Что же мог делать Сталин один, без них? Выйти на Красную площадь и призвать народ к бунту?
И интриганы, и Сталин боролись не только за власть, но и за определенный курс внутренней и внешней политики Кремля. Сталин никого не убивал из любви к убийству. Не был он и садистом, и еще меньше — параноиком.
Сталин был политик, действующий уголовными методами для достижения цели. Более того. Он представлял собою уникальный гибрид политической науки и уголовного искусства, превосходя этим всех других политиков. Сталин был принципиально постоянным в своих злодеяниях: в восемнадцать лет он выдал свой марксистский кружок в Тифлисской духовной семинарии жандармам (оправдывая себя тем, что так он сделал кружковцев революционерами); в двадцать восемь лет он руководил убийством людей на Эриванской площади в Тифлисе во время вооруженного ограбления казначейства; в тридцать восемь лет он лично командовал в Царицыне массовыми расстрелами пленных «белогвардейцев»; в сорок восемь лет начал подготовку к истреблению крестьянства; ему было пятьдесят восемь лет, когда по его приказу в 1937–1938 годах чекисты умертвили миллионы невинных людей; ему было уже семьдесят лет, когда он без суда расстрелял дюжину членов ЦК, своих ближайших помощников. Теперь он решил взяться за остальных.
К XIX съезду партии Сталин оказался в полной изоляции от остальных членов Политбюро по важнейшим вопросам международной и внутренней политики. Достаточно беглого анализа спорных вопросов, чтобы видеть глубину разногласий.
Так, Сталин просто проспал радикальную революцию в мировой политике и дипломатии в результате появления термоядерного оружия. … На Сталина эта бомба действительно не произвела должного впечатления.
Коренное разногласие между Сталиным и Политбюро возникло именно по вопросу о политике мира. Политбюро стояло на той же точке зрения, что и Запад: в эпоху термоядерного оружия результатом войны будет лишь самоубийство человечества. Поэтому Политбюро пересмотрело основное положение Ленина, гласившее: в эпоху империализма мировые войны абсолютно неизбежны, как неизбежна мировая коммунистическая революция на руинах этих войн.
Политбюро приводило и другие аргументы: образовавшаяся после второй мировой войны мировая социалистическая система и движение широких масс за мир во всем мире способны предупредить новые войны…. В этой связи придется остановиться на полемической работе, выпущенной Сталиным и приуроченной им к XIX съезду партии: «Экономические проблемы социализма в СССР» (сентябрь 1952 г.).
Сталин здесь вовсе не занимался теорией, вовсе не был занят открытиями новых абстрактных законов марксизма в политэкономии, он спорил с другими ведущими руководителями ЦК по важнейшим вопросам дальнейшего развития внутренней и внешней политики СССР. Что Сталин спорит с ними, знали только эти руководители ЦК, но ни советский народ, ни партия, ни тем более западные исследователи этого не знали и знать не могли.
Разберем сначала установки партийных документов. Вот что записало сталинское Политбюро на XX съезде: «Миллионы людей во всем мире спрашивают: неизбежна ли новая война, неужели человечеству, пережившему две кровопролитные мировые войны, предстоит пережить еще и третью? Имеется марксистско-ленинское положение, что, пока существует империализм, войны неизбежны… Но в настоящее время положение коренным образом изменилось. Фатальной неизбежности войны нет. Теперь имеются мощные общественные и политические силы, которые располагают серьезными средствами, чтобы не допустить развязывания войны империалистами».
А вот как возражал Сталин: «Говорят, тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны, нужно считать устаревшим, поскольку выросли в настоящее время мощные народные силы, выступающие в защиту мира, против новой мировой войны. Это неверно… Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (Экономические проблемы социализма в СССР, 1952, с. 36). Анонимами, с которыми Сталин спорил на XIX съезде («говорят»), как раз и были члены его Политбюро (это они так единодушно и доказали на следующем, XX съезде партии).
«Мирное сосуществование» — это кодовое определение для ленинской стратегии: разгромить капитализм не военной силой советской России, что вообще невозможно, а взорвать его изнутри инфильтрацией идей, людей и организацией перманентных революционных диверсий. Поэтому-то в «Программе КПСС» (1961) и записано, что мирное сосуществование «является специфической формой классовой борьбы». Надо отдать должное наследникам Сталина, что в этом споре, изменяя букве ленинизма, они остались верными его духу, что нельзя было сказать о самом Сталине.
Хотя Ленин писал о неизбежности войн в эпоху империализма, который представлялся ему последней стадией «загнивающего, умирающего капитализма», в нем все-таки хорошо было развито чувство реальности. Поэтому Ленин делал оговорку, которая сводила на нет только что им выставленный тезис, а именно: капитализм и в эпоху империализма развивается быстрее, чем до нее.
Сталин считает, что после второй мировой войны это утверждение недействительно. Он пишет: «Можно ли утверждать, что известный тезис Ленина, высказанный им весной 1916 года, о том, что, несмотря на загнивание капитализма, «в целом капитализм растет неизмеримо быстрее, чем прежде», — все еще остается в силе? Я думаю, что нельзя этого утверждать. Ввиду новых условий, возникших в связи со второй мировой войной, (этот) тезис нужно считать утратившим силу» (там же, с. 32).
Выходило, что западная экономика и техника неспособны дальше развиваться, капитализм теперь уж окончательно загнил. Отсюда логический вывод: пришло время справлять отходную по мировому капитализму! Разумеется, реалисты из Политбюро считали это опаснейшей иллюзией.
В той же работе Сталин спорил с Политбюро не только по внешнеполитическим, но и по внутриэкономическим вопросам.
Сталин писал: «Товарное обращение несовместимо с перспективой перехода от социализма к коммунизму… Излишки колхозного производства поступают на рынок и включаются таким образом в систему товарного обращения… Нужно выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами. В этом суть» (там же, с. 92–93).
Хрущевское руководство и — особенно последовательно и поэтому более эффективно — брежневское руководство доказали, что «суть» как раз в совершенно противоположном: в развертывании и использовании товарных отношений и других капиталистических категорий (прибыль, цена, ренты, премии) как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Более того. Советская социалистическая экономика постепенно начала включаться и в орбиту мирового товарного обращения, в СССР стали приглашать капиталистов, чтобы они своими кредитами, техникой и технологией помогали строить «коммунизм».
Мы остановились лишь на тех спорных вопросах между Сталиным и Политбюро, которые легко прослеживаются по партийным документам. Однако были и разногласия, только глухо выходившие наружу.
Во внутренней политике таким было требование Сталина о новой «великой чистке» в партии, армии и государственном аппарате и продолжение, по примеру Грузии, массовой чистки от «буржуазных националистов» во всех союзных и автономных республиках. После Грузии была очередь Украины. (В начале июня 1952 года на пленуме ЦК Украины главным вопросом обсуждения и был украинский «буржуазный национализм».)
Главные же разногласия между Сталиным и Политбюро в международной политике касались новой доктрины, впервые официально сформулированной на будущем XX съезде — об упомянутом «мирном сосуществовании» в духе Ленина. Ученики и соратники Сталина считали, что «мирное сосуществование» социализма и капитализма есть, по Ленину, «генеральная линия» советской внешней политики. Сталин отвечал, что лозунг «сосуществования», собственно, выдумали идеологи американского империализма для маскировки подготовки третьей мировой войны против социалистического лагеря.
Сталин на самом деле, в полном согласии с Лениным, думал, что «генеральная линия» советской внешней политики — это курс на мировую пролетарскую революцию, а что касается «сосуществования», то Ленин даже не знал этого слова.
Очень отрицательную, даже вредную для СССР роль сыграла и другая установка Сталина: он ошибочно считал, что после второй мировой войны фактически никакого освобождения колониальных народов не произошло, сменилась только форма колониализма, и все эти Неру и Сукарно — наемные сатрапы западных империй.
Соратники и ученики Сталина полагали, что такая установка мешает Советскому Союзу войти в тыл освобождающихся колоний, привлечь их в русло советского влияния и противопоставить их бывшим метрополиям. Ученики Сталина справедливо видели здесь великое будущее советской глобальной политики экспансии, широкий выход СССР на другие континенты, мировые моря и океаны.
Ученики Сталина, действуя в духе Сталина его лучших былых времен, считали нужным и возможным материально участвовать и в создании в бывших колониях особых форм правления и социального общежития нового типа.
Берия … выступил на съезде с самой большой речью. И она была не только большая, а острая по стилю, высококвалифицированная политически и убедительная для слуха и ума партийных ортодоксов. Она была и единственной речью, на которой лежал отпечаток личности оратора. … Берия тонко протаскивает, по существу, антисталинскую ересь — ставит партию впереди Сталина: «Вдохновителем и организатором великих побед советского народа (в войне. — А.А.) была Коммунистическая партия, руководимая Сталиным» («Правда», 9.10.52). До сих пор во всех газетах, журналах и книгах можно было прочесть, что «вдохновителем и организатором» был сам Сталин, а потом, где-то на задворках, что-то делала и партия.
Другая ересь была вызывающей. Берия не ко времени, а потому и очень смело, напомнил партии приоритеты ее национальной политики: есть разные опасности отклонения от национальной политики партии, и они следуют в таком порядке — на первом месте стоит опасность «великодержавного шовинизма» (значит, русского шовинизма), на втором месте — опасность «буржуазного национализма» (значит, опасность местного национализма) и на третьем месте — опасность «интернационального космополитизма» (значит, «сионизм» и прочие «измы»).
Можно смело предположить, что, кроме Сталина и членов Политбюро, никто на съезде не знал, что здесь Берия прямо спорит со Сталиным, считавшим «буржуазный национализм», «сионизм» и «космополитизм» главной опасностью для СССР, а русского великодержавного шовинизма не признававшим вообще.
Полным невежеством съезда в делах на верхах партии надо объяснить и то, что Берия сошел с трибуны как триумфатор.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СТАЛИНА
«Генеральная линия партии» была сильна своей ясностью, неуязвимостью, повелительностью. В ее лексиконе не было слова «думать», а было всем понятное и принятое слово «действовать»! «Думать» — это прерогатива самого Сталина, «действовать» — это задача всей партии. Поэтому и «порядок» был идеальным, и управлять было легко. Война внесла в «генеральную линию» дисгармонию. Люди, прошедшие через войну, от Волги к Эльбе, стали другими.
В глубине души Сталин был согласен с западными остряками: «Сталин в войну сделал только две ошибки: показал Ивану Европу и Европе Ивана». Эти Иваны притащили домой бациллы свободы и социальной справедливости: «в Германии скот живет лучше, чем у нас люди», «у американского солдата шоколада больше, чем у нашего картошки», «на Западе президенты и министры — обыкновенные грешники, а у нас боги-недотроги». Надо вернуть этот «расфилософствовавшийся», больной народ в первобытное довоенное состояние: нужен антибиотик, нужно и новое, полезное кровопускание.
Этого никак не хотят понять верхи партии. Они даже не прочь начать диалог с Западом («сосуществование»!), не прочь искать его помощи в решении внутриэкономических (колебания — принять или не принять «план Маршалла») и внешнеторговых проблем СССР (предложения о «хозяйственно-технической кооперации»), а для этого готовы посягнуть на святая святых — монополию внешней торговли — и немножко приоткрыть «железный занавес» для циркуляции бизнеса. Но это ведь начало конца «генеральной линии». По каналам бизнеса двинутся в СССР тысячи, миллионы новых бацилл Запада. Их принесут не только западные Джоны и Жаны, но и циркулирующие между СССР и Западом русские Иваны: инженеры, хозяйственники, коммерсанты, туристы, студенты, спортсмены… «Железный занавес» станет дырявым, и начнется другой диалог, диалог между народом и правительством, поощряемый и подстрекаемый Западом. Случится небывалое и непоправимое: народ начнет интересоваться своим прошлым и философствовать о будущем. Появятся новые Радищевы, Белинские, Герцены. Русь духовно придет в движение, а за нею и национальные окраины, за ними и страны-сателлиты. Вот такая перспектива рисовалась Сталину, если не вернуться к старой, испытанной «генеральной линии».
Пленум нового ЦК происходит через два дня после закрытия XIX съезда, а именно 16 октября 1952 года. При внимательном наблюдении можно было заметить, что этот необычный прецедент был связан с трудностями создания исполнительных органов ЦК. Впоследствии стало известно, что Сталин, демонстративно игнорировавший рабочие заседания XIX съезда (из восемнадцати заседаний он посетил только два — первое и последнее, оставаясь на них по нескольку минут), был исключительно активен на Пленуме ЦК. Сталин разработал новую схему организации ЦК и его исполнительных органов. Он предложил XIX съезду вдвое увеличить членский и кандидатский состав ЦК: было избрано 125 членов и 111 кандидатов в члены ЦК. Теперь Пленуму ЦК он предложил, как бы соблюдая симметрию, избрать в членский состав Президиума (Политбюро) 25 человек, а в кандидатский состав — 11. Но дело было не в процентной норме и не в желании симметрии — Сталин смешивал своих «нечестивых» адептов из старого Политбюро со рвущимися наверх «целинниками» из областных вотчин партии. На расстоянии загипнотизированные «гением отца» и святостью его воли, партийные целинники должны были явиться орудием уничтожения «нечестивых». Знали ли они о предназначенной им роли — значения не имеет. Важно другое — старые члены Политбюро знали, что такова цель Сталина.
Когда Сталин, напоминая пленуму ЦК «ленинградское дело», «сионистское дело», «грузинское дело», стал разбирать членов Политбюро по косточкам, копаясь в их исторических, политических и генеалогических грехах, то выяснилось: из 11 членов Политбюро 5 оказались еврейскими родственниками (Молотов, Маленков, Ворошилов, Хрущев, Андреев), один — евреем (Каганович), один «полуевреем» (Берия), два — причастными к «ленинградской мафии» (Косыгин и Микоян; сын последнего был женат на дочери главы «мафии» Кузнецова), только один человек оказался чистым — безвредный и бесцветный Булганин.
Во время атак Сталина против его соратников еще никто из них не знал, какой подвох готовится тому, о ком, кажется, он ничего не сказал на пленуме: Берия.
В Праге и Варшаве готовились два политических процесса над коммунистическими лидерами этих стран, которых спас лично Берия во время конфликта с Тито, а также процесс титовцев в Болгарии и Венгрии, тоже до сих пор пользовавшихся поддержкой Берия. Эти спасенные Берия лидеры теперь оказались «сионистами»: генеральный секретарь ЦК Компартии Чехословакии Сланский (еврей) и генеральный секретарь ЦК Компартии Польши Гомулка (женат на еврейке). Таким образом, круг большого международного заговора сионистов Америки, СССР и Восточной Европы против коммунизма замыкался (тут Сталин действовал точь-в-точь по рецепту Гитлера, только и говорившего о «заговоре мирового еврейства»).
РАЗГРОМ «ВНУТРЕННЕГО КАБИНЕТА»
Анализ последующих событий показывает, что новый министр госбезопасности С. Д. Игнатьев играл двойную роль: прилежно выполнял приказания Сталина и аккуратно сообщал их тем, против кого они были направлены, Маленкову, Берия, Хрущеву. Это было не предательством, а своего рода самострахованием Игнатьева. Он знал, что никто из министров госбезопасности, уничтожавших людей по приказу Сталина, своей смертью не умер.
Естественно, что и в Министерстве госбезопасности он ощущал себя не профессиональным чекистом, а резидентом партаппарата, его посланником и исполнителем его воли. Если интересы тайной полиции приходили в столкновение с интересами партаппарата, то люди типа Игнатьева становились на сторону партии, а партию олицетворял собою партаппарат. В силу этого Игнатьев был идеальным орудием на идеальном месте для организации заговора против Сталина.
Первые же сообщения Игнатьева о ходе допросов врачей показали, что замыслы Сталина направлены не только против Берия и его чекистов, но и против всего Полютбюро. … Все это и привело к решению Берия предложить Сталину, чтобы он подал в отставку со всех своих постов.
Известно было, кто не пойдет к Сталину с таким требованием: Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян — не пойдут из-за своих былых личных связей или трусости. Новые члены Президиума вообще отпадают — велика была опасность, что кто-нибудь из них выдаст весь план. Остаются те, кого Хрущев называет правительствующим «внутренним кругом» нового Бюро, куда, кроме Сталина, входили только члены негласной четверки — Берия, Маленков, Хрущев и Булганин, плюс ставленник этой четверки — Игнатьев. По иронии судьбы, только их Сталин и пускал к себе.
Местом наиболее безопасным для предъявления Сталину требования об отставке, конечно, было далекое от Москвы Черноморское побережье Грузии. Однако после создания «мингрельского дела» Сталин побаивался своих земляков и перестал ездить туда на отдых. … Оставались Кремль и дача под Москвой. Кремль импонировал с легальной стороны — как резиденция государства и партии. Все легальные акты должны исходить отсюда. Но если Сталин отказался бы принять требования об отставке, то одним нажатием кнопки он поднял бы тревогу не только в Кремле, но и в Москве, да и по всей стране: коммуникация здесь была идеальная. Поэтому отпадал и Кремль. Оставалось Кунцево, дача Сталина под Москвой.
Кунцево тоже было опасно, но только до тех пор, пока безотказно действовал «внутренний кабинет» Сталина. Лишите Сталина этого «кабинета», и тогда он в ваших руках — таков и был план Берия. Надо было убрать от Сталина его личного врача, начальника его личной охраны, начальника его личного кабинета, его представителя в Кремле — коменданта Кремля. Их можно было убрать только руками самого Сталина. Здесь Берия был в своей стихии.
…Аллилуева пишет: «Надо сказать, что в это самое последнее время даже давнишние приближенные отца были в опале: неизменный Власик сел в тюрьму зимой 1952 года, и тогда же был отстранен его личный секретарь Поскребышев, служивший ему около 20 лет».
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАЛИНА
В роковой для себя день — 13 января 1953 года — Сталин опубликовал «Хронику ТАСС» о раскрытии органами государственной безопасности «террористической группы врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Эта публикация как раз и сократила жизнь самому Сталину.
«Хроника» сообщила о признании врачей, что они умертвили «путем вредительского лечения» секретарей ЦК Жданова и Щербакова, хотели убить маршалов Василевского, Говорова и Конева, генерала Штеменко, адмирала Левченко. Профессор Вовси якобы заявил следствию, что получил директиву от сионистов из «Джойнта» «об истреблении руководящих кадров СССР» (заметим, что важнейших маршалов — Жукова и Булганина, а также важнейших деятелей партии — Маленкова, Берия, Хрущева — нет в числе намеченных жертв).
Сталин настолько ослеп в своей злобе против Политбюро или настолько одряхлел умственно, что уже не видел, как шьет новое черное дело старыми белыми нитками: «Некоторые люди делают вывод, что теперь уже снята опасность вредительства, шпионажа… но так думать и рассуждать могут только правые оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения затухания классовой борьбы. Они не понимают, что наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению борьбы, что чем усиленнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет борьба врагов народа»(«Правда», 12.1.53).
Кто же эти анонимные «правые оппортунисты»? Сталин прямо указывает адрес искомых «врагов народа»:
1) «Некоторые наши советские органы и их руководители потеряли бдительность, заразились ротозейством»;
2) «Органы госбезопасности не вскрыли вовремя вредительской, террористической организации среди врачей» (там же).
Сталин заканчивает статью грозным предупреждением: «Советский народ с гневом возмущения клеймит преступную банду убийц и их иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, он раздавит как омерзительную гадину. Что же касается вдохновителей этих наймитов-убийц, то они могут быть уверены, что возмездие не забудет о них и найдет дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово» (там же).
Берия и Маленков, Хрущев и Булганин, не говоря уж о Молотове и Ворошилове, о Микояне, Кагановиче и Андрееве, отлично знали и этот язык, и свою обреченность, если Сталин останется у власти еще несколько месяцев.
КАК ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ?
Если существование антисталинского заговора надо считать фактом неоспоримым (как по условиям сложившейся наверху олигархии, так и по объективным результатам переворота), то вопрос, как произошел сам переворот, остается все еще одной из самых глубоких тайн Кремля.
СТАЛИН ЛЕГЕНДАРНЫЙ И ПОДЛИННЫЙ
Что Сталин — организатор многомиллионной инквизиции и уникальной тирании, спорить не приходится. Что он не оратор, не теоретик и даже не интеллигент — совершенно очевидно. Что он хотел не человечество осчастливить, а себя вознести — тоже доказано. Но на путях к этому возвышению он побеждает своего учителя — Ленина, его соратника в Октябре — Троцкого, его «старую гвардию» — Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, ЦК, партию — и все это в легальных рамках устава партии и без единого выстрела, хотя бы даже из-за угла.
Да что говорить о внутренних врагах, когда он обвел вокруг пальца и тех, кого считали национальными гениями своих стран — Рузвельта и Черчилля, — спас при их помощи свой режим да еще открыл их же руками шлюзы коммунизма для создания теперь уже тринадцати новых коммунистических государств на трех континентах с населением (вместе с СССР) более одной трети всего человечества.
В чем же секрет этих побед, каким магическим оружием этот малокультурный человек так метко и безошибочно бьет врагов?
Применение варварских методов во всех сферах управления страной стало его системой. После бесплодных споров со всякого рода внутрипартийными оппозициями он понял, что в отведенное ему историей время не сможет достичь цели, если будет лишь орудием партии и ее ЦК. Лучше превратить их в свое орудие. При этом он действовал в точном согласии с ленинизмом. Вот что Ленин говорил об этом за два года до назначения Сталина генсеком: «Советский социалистический централизм единоличию и диктатуре нисколько не противоречит… волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим».
Став таким диктатором, Сталин приступил к превращению великой аграрной страны в страну индустриальную, многомиллионных единоличных крестьянских хозяйств — в одно коллективное хозяйство государственных крестьян, неграмотных мужиков — в грамотный индустриальный пролетариат, малограмотных рабочих — в техников и инженеров, к превращению народной советской власти — в полицейскую партократию, а всего государства — в закрытую страну с «границами на замке» (даже фильм был такой до войны). Отсюда — форсированная индустриализация, насильственная коллективизация, пятилетки, чистки, инквизиция.
Вся старая и новая знать России — от статских советников до коллежских регистраторов, от дворян до столыпинских и ленинских нэповских мужиков, от царских офицеров до белогвардейцев, от земских деятелей до сельских священников, от монархистов до кадетов, от эсеров до меньшевиков, от троцкистов и бухаринцев до старых большевиков, «от буржуазных националистов» до национал-коммунистов, от командиров Красной Армии до красных партизан — была физически ликвидирована в течение первых двух пятилеток (1928–1938). По данным Сталина, зажиточных крестьян было ликвидировано в 1930–1933 годах 10 миллионов человек; по оценке специалистов, от искусственного голода погибло в 1932 году на Украине 6 миллионов человек, а «врагов народа» было арестовано в 1937–1938 годах до 8–9 миллионов человек. После этого Сталин заявил: в СССР ликвидированы классы и построено «бесклассовое социалистическое общество», но народ, не терявший юмора даже в эту жуткую эпоху, острил: «Сталин ошибается, в СССР все еще остались три класса: те, которые сидели; те, которые сидят; те, которые будут сидеть».
Лидер партии, провозгласившей своей исторической миссией ликвидацию всякой государственной власти («отмирание государства»), Сталин признавал только одного бога — государство. Для увеличения мощи русского государства он сделал больше, чем вся династия Романовых, но и власть у него была тоже большая, чем у всех этих царей, вместе взятых.
1992 г.
Абдурахман Геназович Авторханов пишет: "Я родился бог весть когда, что-то между 1908 и 1910 годами". Из мусульманской духовной семинарии был исключён за чтение светской литературы. В 1923 году убежал из дома в Грозный. Фамилию «Авторханов» получил при поступлении в Грозненский детский дом.
В 1927 году вступил в ВКП(б) и, по рекомендации Чеченской партийной организации, поступил на подготовительные курсы московского Института красной профессуры (ИКП). Институт являлся учебным заведением партии по подготовке высших теоретических кадров. Институт окончили такие будущие высшие руководители партии, как Суслов, Пономарёв, Поспелов. B институте Авторханов сблизился с кружком сторонников Бухарина.
В 1928 году он бросил ИКП и вернулся в Грозный на рабфак, который окончил в 1929 году. Как «подающего большие надежды» чеченца (в тот момент в обкоме чеченцев вообще не было), Авторханова назначили сразу вторым лицом в тогдашней партийной иерархии Чечни — исполняющим обязанности заведующего организационным отделом Чеченского обкома ВКП(б).
В 1930 году Авторханов вернулся в Москву на подготовительное отделение ИКП. В этом же году написал статью в газете «Правда», в которой критиковал положение в национальных окраинах и неподготовленную коллективизацию. Статья подверглась резкой критике в «Правде», он был исключен из ИКП и откомандирован на Кавказ.
В 1932 году был назначен директором Чеченского отделения Партиздата при ЦК ВКП(б). Его приняли в Союз писателей СССР по секции критики. Он присутствовал на Первом съезде писателей.
B 1933 году поступил на Курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) в Москве, а в 1934 году — в ИКП, который окончил в 1937 году и получил направление на работу в распоряжение Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). По приезду в Грозный его арестовывают по делу о «чеченском буржуазно-националистическом центре» вместе со всем партийным активом республики.
В январе 1940 года в Чечне началось народное антисоветское восстание под руководством Хасана Исраилова, друга детства Авторханова. В феврале 1942 года Исраилов объединился с руководителем другого восстания Майербеком Шериповым. В результате они полностью контролировали всю горную Чечню.
По личному поручению Берии Авторханов должен был быть направлен к Исраилову с задачей либо убедить сдаться, либо убить его. Вместо этого Авторханов во второй половине 1942 года ушёл в подполье и перешёл линию фронта. Он передал немецкому командованию письмо от Исраилова с предложением союза на условиях будущей независимости Чечни. Германское командование предложение союза отвергло.
Вскоре (в январе 1943 года) он переехал в Берлин. Его работа заключалась в том, что он готовил политические и исторические обзоры по Кавказу. Кроме того, он сотрудничал в русской периодике в Германии и стал членом Северокавказского национального комитета.
В апреле 1945 года Авторханов покинул Берлин и пробрался в американскую зону оккупации. Совместно с эмигрантской организацией Антибольшевистский блок народов издавал журнал «Набат», публиковался в русском эмигрантском журнале «Посев», издаваемым Народно-трудовым союзом российских солидаристов.
В 1948 году он прочёл цикл лекций о Советском Союзе в военной академии, которая впоследствии стала называться Русским институтом армии США в Гармише (Германия). Авторханов проработал там до ухода на пенсию в 1979 году.
Он стал одним из самых активных и продуктивных советологов. В 1950 году он был в числе основателей Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене, a также Северокавказского антибольшевистского национального объединения и его журнала «Свободный Кавказ». Он активно участвовал в создании радио «Освобождение» (впоследствии — Радио «Свобода»), был организатором его Северокавказской редакции.
В 1950 году в еженедельнике «Посев» была напечатана его книга «Покорение партии». В 1959 году вышла его наиболее популярная в СССР книга «Технология власти». В 1976 году опубликована книга «Загадка смерти Сталина: заговор Берия».
Умер в Германии в 1997 году.
Диктатура номенклатуры
Теория «Нового класса» в работах Милована Джиласа и Михаила Восленского
9.10.2015
Зотин Виктор
Новый класс (1957)
Mилован Джилас написал свою работу о бюрократии, как новом классе при реальном социализме, уже будучи долгое время членом этого самого класса. Он вступил в партию ещё в 1933, успел отбыть срок за свои убеждения, повоевать против фашистов на стороне черногорских партизан, после чего, вернувшись в Югославию, плотно вошёл в “обойму”. Так, в 46-ом Джилас возглавляет делегацию Югославии в ООН, в 47-ом активно влияет на формирование Коминформа, а в 53-ем становится одним из четырех вице-президентов при федеральном исполнительном совете. Уже после смерти Сталина вдруг обрушивается с критикой на высшее партийное руководство, а в 56-ом даже приговаривается к тюремному заключению. Однако свои рукописи успевает переправить за границу, и в 1957 году “Новый класс” выходит в США.
Откровенно говоря, текст югославского коммуниста-ренегата, представляет крайне малый интерес с теоретической точки зрения, и интересен скорее как публицистический.
В «Новом классе» мы находим довольно интересные ключевые тезисы:
Современный коммунизм возник, как идея, одновременно с возникновением современной промышленности. Он отмирает или терпит поражения в тех странах, где промышленное развитие уже достигло своих основных целей. Он процветает в тех странах, где этого ещё не произошло.
Весьма творчески развивая ленинскую работу «Империализм как высшая стадия развития капитализма», Джилас утверждает следующее: если современный капитализм достиг той стадии, когда эксплуататоры и рантье концентрируются в странах с развитым капитализмом, а основная тяжесть эксплуатации переносится на рабочих из неразвитых стран, то социализм и обобществление средств производства будут единственным способом модернизации развивающихся государств и единственной альтернативой бесконечной их эксплуатации.
Коммунистические революции были первыми революциями в истории, которым приходилось создавать новое общество и новые социальные силы.
Из пассажа про созидание нового общества следует, что производительные силы объективным образом не успевают в социалистическом обществе за производственными отношениями, потому коммунисты нуждаются в диктатуре, дабы волюнтаристским образом подгонять производительные силы за производственными отношениями.
Во всех прежних революциях необходимость в революционных методах исчезала с окончанием гражданской войны и иностранной интервенции, так что эти методы и партии подлежали устранению. Но коммунисты продолжают применять революционные методы и после своих революций, и их партия быстро приходит к полнейшему централизму и к идеологической замкнутости и нетерпимости.
Таким образом :
По строгой логике, коммунистическая революция, поскольку она в исключительных условиях и путём государственного принуждения достигает того же, чего достигли промышленные революции и капитализм на Западе, представляет собой лишь новую форму государственно-капиталистической революции.
Джилас заканчивает свои рассуждения мыслью, что крайне необходимый в период индустриализации бюрократический аппарат, по мере реализации собственной программы, теряет собственную актуальность и оформляется в новый класс, облечённый неограниченной властью в рамках диктатуры собственной партии.
На вопрос о том, может ли пролетариат победить в революции и достигнуть собственной диктатуры без сплочённой в единый кулак партии, и Ленин, и Троцкий отвечали однозначно: нет, это невозможно.
Вопрос о том, как практически возможен переход от диктатуры буржуазии к диктатуре пролетариата, актуален до сих пор. Сам же Джилас безапелляционно утверждает, что диктатура пролетариата — чистейшей воды утопия, неизбежно приводящая к диктатуре партии и, следовательно, непосредственно её вождей.
Вопрос о том, является ли бюрократия классом, Троцкий разбирал в «Преданной революции», и пришёл к однозначному выводу:
Попытка представить советскую бюрократию, как класс “государственных капиталистов” заведомо не выдерживает критики. У бюрократии нет ни акций, ни облигаций. Она вербуется, пополняется, обновляется в порядке административной иерархии, вне зависимости от каких-либо особых, ей присущих отношений собственности. Своих прав на эксплуатацию государственного аппарата отдельный чиновник не может передать по наследству. Бюрократия пользуется привилегиями в порядке злоупотребления. Она скрывает свои доходы. Она делает вид, будто в качестве особой социальной группы, она вообще не существует. Присвоение ею огромной доли народного дохода имеет характер социального паразитизма. Все это делает положение командующего советского слоя в высшей степени противоречивым, двусмысленным и недостойным, несмотря на полноту власти и дымовую завесу лести.
Между тем, для более полного раскрытия классовой сущности бюрократии, автор буквально в паре строчек высказывает тезис, который потом займет у Восленского всю последнюю главу исследования.
Сформулирован он следующим образом: да, каждый отдельный бюрократ не обладает правом на средства производства и не способен передавать их по наследству. Однако, вся бюрократия в целом вполне реализует право коллективной собственности. Джилас даже приводит очень остроумное сравнение коллективной собственности с правом собственности на землю в древнем Египте…
Один из последних его тезисов, вновь оставленных без должного внимания, заключается в следующем: коль скоро бюрократия оформляется в класс, а класс замыкается в рамках собственных маленьких социализмов, очень быстро происходит национализация бюрократии. А уже она подталкивала СССР к империализму и социалистические страны — к конкуренции друг с другом.
Михаил Восленский (1920–1997)
Автор следующей книги, о которой мы хотели бы поговорить, Михаил Васильевич Восленский также человек для номенклатуры совершенно не посторонний. Начать следует с того, что он — классический представитель советской интеллигенции как минимум в третьем поколении. Мать — преподаватель математики, отец — экономист, тётушка — историк-антиковед. Дед, погибший ещё до революции и сильно симпатизировавший рабочему движению, служил инженером путей сообщения в Восточной Сибири, где судьба и свела его со ссыльным членом первой в России марксистской группы «Освобождение труда» Львом Григорьевичем Дейчем, в которую помимо него, напомним, также входили Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Василий Игнатов и Вера Засулич. Знакомство это перейдёт от деда к внуку, и, уже будучи в Москве, Лев Григорьевич, несмотря на меньшевистское прошлое, будет принимать активное участие в воспитании молодого тогда Михаила Восленского.
В Москву всей семьёй Восленские переедут из Бердянска в 1925 году, после чего Михаил окажется в типичной «элитной» советской школе. Помимо него в ней также будут учиться, например: его одноклассник Рафка, сын наркома оборонной промышленности СССР Бориса Ванникова, дочь советского генерала Афанасия Петровича Вавилова, бывшего в последние годы Сталина заместителем Генерального прокурора СССР по особо важным делам, и многие другие с детства вписанные в номенклатурный круг потомки своих заслуженных родителей.
Закончив школу в 1939, Восленский поступает на истфак МГУ, после окончания которого, как скромно повествует его официальная биография, «работает в Коломенском государственном институте», где и пережидает Великую Отечественную войну. В Москву он возвращается как раз в год её окончания, после чего поступает в аспирантуру и, будучи всего лишь аспирантом, в 1946 году назначается официальным переводчиком советской делегации на Нюрнбергском процессе. Возвращается в 1947, в 1950 защищает диссертацию, 15 лет работает в крупнейшем политологическом учреждении — Институте мировой экономики и международных отношений, затем — в Институте всеобщей истории Академии наук СССР, регулярно контактируя с аппаратом ЦК КПСС. Дослуживается в итоге в 1966 до должности профессора и завкафа всеобщей истории в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы.
Невозвращенцем из ФРГ Восленский станет в 1972, после того как приедет туда с лекциями. Переехав, получает приглашение на работу от проф. К.Ф. фон Вайцзекера в исследовательский Институт общества им. Макса Планка. В итоге до конца своей жизни руководит в Мюнхене Институтом по исследованию советской современности.
В 1990 году восстановлен в гражданстве СССР, после чего, уже в России, в издательстве (о, злая ирония!) «Советская Россия», впервые выходит официальное издание его «Номенклатуры» на русском языке.
Номенклатура
Сами положения и выводы Восленского весьма спорны, однако представлены и оформлены они с академической дотошностью.Реальный социализм — это классовое общество
Взяв за основу мимоходом оброненный Джиласом тезис о том, что практически на любую руководящую должность при реальном социализме принимают исключительно членов партии, занимающих соответствующее положение, Восленский приходит к определению термина, давшего в итоге название для книги.
Итак, номенклатура — это: 1) перечень руководящих должностей, замещение которых производит не начальник данного ведомства, а вышестоящий орган, 2) перечень лиц, которые такие должности замещают или же находятся в резерве для их замещения.
Таким образом, Восленский полагает, что несмотря на формально демократическую структуру советского государства, все решения в нём реально принимает партийная структура КПСС, превращая остальные процедуры, типа «выборов на местах» и «демократического централизма» в бутафорию, скрывающую собственную диктатуру.
В главе «Система принятия решений в СССР» он пишет:
Центрами принятия решений класса номенклатуры являются не Советы, столь щедро перечисленные в Конституции СССР, а органы, которые в ней не названы. Это партийные комитеты разных уровней: от ЦК до райкома КПСС. Они и только они принимали все до единого политические решения любого масштаба в СССР. Официальные же органы власти — лишь безжизненные луны, светящиеся отраженным светом этих звезд в системе класса номенклатуры.
Таким образом, номенклатурщик в СССР — это далеко не каждый член партии на руководящей должности, но тот, кто их на эти должности назначает. Притом, внутри номенклатуры, отмечает Восленский, существует строгое разграничение, и каждая руководящая должность на деле входит в номенклатуру соответствующего отдела в партии.
Для большей наглядности автор даже описывает некую «стереометрическую модель номенклатуры»:
Если попробовать дать стереометрическую модель номенклатуры, то получится конус с конической же сердцевиной. На поверхности параллельными основанию окружностями будут отмечены границы: от номенклатуры райкомов в низу до номенклатуры ЦК на верху внешнего конуса и от райкомов в низу до ЦК КПСС на верху сердцевины (самая ее верхушка обозначает Политбюро, а вершина конуса — Генерального секретаря ЦК).
Однако монолитными частями модели являлись бы не параллельные срезы (комитет плюс его номенклатура), а сами два разнимающихся конуса. Классотворная сердцевина номенклатуры сделана как бы из особого материала, отличного от сравнительно рыхлого тела внешнего конуса. Это тело не только создано сердцевиной — различными ее отрезками, но и держится, как на стержне, на сердцевине в целом.
Сердцевина номенклатуры, утверждает Восленский, отличается от рыхлого наружного тельца тем, что ей практически не угрожает сменяемость, ибо она находится не на выборных, а на назначаемых должностях.
В дальнейшем Восленский дополнит свою модель четырьмя «крыльями»:
У этого конуса, как у ракеты, есть четыре “стабилизатора”, отходящие от сердцевины: номенклатура кагебистская, военная, пропагандный аппарат и номенклатура внешнеполитической службы. Причем гебистский “стабилизатор” — наиболее важный из всех.
Верхние части этих самых «стабилизаторов» благополучно вливаются в тело собственно номенклатуры, подчиняя таким образом всю свою выступающую часть общим интересам. Так, замечает Восленский, сложно понять, является ли высшее командование армии собственно военной верхушкой, или уже номенклатурой, подчинённой партаппарату.
Итак, считает Восленский, в Советском Союзе в действительности мы имеем весьма централизованное государство, в котором демократические формальности были подменены всеобъемлющей бюрократической процедурой.Но что же такое само по себе государство в терминологии классиков?
«Государство, — говорит нам Ленин, — есть продукт особой организации силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса».
По мере становления советского государства, мы наблюдаем не отмирание (как прогнозировал Ленин в «Государстве и революции»), а усиление государственных функций и проникновение его во всё большие сферы жизни граждан. А значит, мы наблюдаем и подавление рабочего класса.
Кем же?
Номенклатура — это класс
Сталинская схема «общенародного государства трудящихся» объявляет нам, что в Советском Союзе сформировалось три категории граждан: рабочие, колхозники и служащие. Однако, эта систематизация, говорит Восленский, имеет такую же значимость для классовой теории, как разделение граждан по цвету волос на шатенов, брюнетов, блондинов и рыжих. Применённая к капитализму, та же сталинская схема, выделит нам интеллигенцию, крестьянство и пролетариат, что обессмыслит любое дальнейшее изучение и скроет реальный класс угнетателей-капиталистов. Далее в советских социологических работах Восленский докапывается до того, что внутри трёхчленного сталинского деления находит две группы: управляемых и управляющих, и приводит нам их описание. Класс управляющих скрыт внутри заявленной в сталинской схеме прослойке интеллигенции и, отчасти, в среде рабочей номенклатуры. Таким образом, само по себе утверждение о руководящей роли рабочего класса при сталинском социализме есть ложь, ибо реальное руководство осуществляет класс иной. Здесь-то Восленский и применяет наконец гипотезу Джиласа о том, что управляющая группа в СССР сформировала по итогам своего становления новый класс, и даёт ему имя тщательно описанной им же номенклатуры.
Как известно, Маркс не оставил нам конкретного определения класса — глава эта в третьем томе «Капитала» так и осталась ненаписанной. Но это не являлось необходимым, ибо классы являются по Марксу лишь диалектическими моментами в классовой борьбе, и в каждой новой формации они формируются по-новому. Для того, чтобы определить новый конкретный класс, следует отталкиваться от наличия в обществе классовой борьбы и рассмотреть положение с точки зрения дихотомии «угнетатель-угнетаемый».
Определение классов впоследствии дал Ленин, и ему, утверждает Восленский, номенклатура соответствует полностью:
… это большая группа людей, отличающаяся от других групп по своему — господствующему — месту в исторически определенной системе общественного производства, тем самым по отношению к средствам производства, по своей — организующей — роли в общественной организации труда, а следовательно, по способу получения и размерам той — непомерной — доли общественного богатства, которой она располагает. Значит, группа “управляющих” целиком подходит под ленинское определение класса, причем класса господствующего. Вот мы и пришли к выводу. “Управляющие” — это господствующий класс советского общества. В обществе реального социализма есть господствующий класс и есть угнетаемые им классы. Вот что увидит путешественник из-за рубежа, приехавший в СССР посмотреть на историческое будущее.
Возникновение номенклатуры
Но как же могло получиться, что результатом попытки построения бесклассового общества на базе диктатуры пролетариата, было построено общество диктатуры управляющих над управляемыми?
Здесь Восленский излагает, по сути, классическую меньшевистскую точку зрения: Россия была объективно не готова к построению социализма, и скачок через полноценную формацию, господствовавшую в Европе на протяжении пяти веков, в России стал возможен лишь через организацию Лениным тщательно выстроенной и строго иерархичной партии революционеров, чьё руководство состояло по большей части из идеалистических интеллигентов, но никак не из пролетариев, которых было на тот момент 2% от общей численности населения.
Он даже приводит слова Маркса:
Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества.
Однако Ленин, бредивший, как утверждает Восленский, революцией, взял марксистский аппарат на вооружение именно потому, что иные уже были испробованы: надежда на крестьянство не оправдалась, а стремительно набиравший силу пролетариат не имел ещё своих вождей и грозил опрокинуть и без того дышащую на ладан общественную структуру.
В итоге именно Ленин, а никак не Джилас, первым отходит от идеи о том, что общественное бытие определяет сознание, заявляя, что без внешнего влияния рабочие не стремятся к революции:
Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть привнесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т.е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п.
Создав же профессиональную партию революционеров, Ленин практически вынужден был отделить её от начинавшего тогда ещё только формироваться, по большей части слабо образованного и несознательного пролетариата. Потому-то и произошёл спор Ленина с Мартовым, приведший в результате к расколу на большевиков и меньшевиков на II съезде партии. Ленин требовал признавать членами революционной партии исключительно профессионалов — тех, кто входит в состав организации и работает под её контролем, в то время как Мартов исходил из принципа добровольности и сознательности.
Так, говорит нам Восленский, возникает зародыш того самого класса, который в будущем сформирует полноценную номенклатуру.
Формирование же нового класса, естественно не обошлось без эксцессов: упоминается в книге и сталинский «ленинский призыв», и «съезд победителей», и ленинская идея организации партийной бюрократии в тексте «Как нам реорганизовать Рабкрин», и противостояние старой гвардии новой номенклатуре.
Однако, как этот самый класс подменил собой пролетариат — то есть тех, от имени кого и была объявлена революция и диктатура? Восленский перефразирует этот вопрос иначе: была ли в принципе установлена диктатура пролетариата?
И тут же отвечает на него — нет.
Восленский уверен: если старая ленинская гвардия и желала установления диктатуры пролетариата, совершить она подобного не могла в силу малой представленности в обществе такового и практически отсутствующего у него классового сознания. Ну а новое поколение партийцев никакого отношения к революционности и идеализму своих предшественников отношения уже не имело.
Поэтому с такой легкостью отказываются от диктатуры пролетариата коммунистические партии. Это отказ не от реальности, а от терминологии. Если им удастся установить свой режим, они будут именовать его «общенародным государством», подобно тому, как и установленные после второй мировой войны коммунистические режимы были названы не «диктатурой пролетариата», а «народной демократией». Сущность же останется той же: диктатура нового класса «управляющих» — его и только его. Не было диктатуры пролетариата в Советской России. Не было ее и ни в какой иной социалистической стране. Вообще ее не было. И рассуждать о ней — столь же осмысленное занятие, как восторгаться покроем наряда голого короля.
В подтверждение этому поднимается тема собственности в Советском Союзе и разбирается расхожее в сталинской политэкономии утверждение, что коль скоро средства производства обобществлены и национализированы, то эксплуататорского класса не существует. Обобществление собственности на средства производства никоим образом не отрицает эксплуатации, мало того, форма собственности на крупный капитал по большей части именно общественная (ОАО, ООО, и т.п.), вот только собственность эта принадлежит вполне конкретному обществу — обществу капиталистов. Мало того, переход общественной собственности в государственную никоим образом не меняет общественных отношений, ведь, как мы уже убедились, государство не есть орган надклассовый, это именно аппарат, принадлежащий одному классу, и предназначенный для управления над другим.
Кроме того, Восленский затрагивает вопрос, который Джилас стыдливо обходил стороной. Он вступает в заочную полемику с Троцким по поводу «классовости» бюрократии:
“Аргумент” же о том, что номенклатура не класс, так как номенклатурные посты не передаются прямо по наследству, вызывает просто недоумение. Вот уж именно в “точном марксистском понимании” понятия “класс” не содержится в качестве обязательного условия наследование принадлежности к данному классу. Нет, например, такого наследования у рабочих — так что же, и рабочего класса не существует?
После чего приходит к выводу:
Таким образом, то, что в СССР заводы и фабрики принадлежат государству, с марксистской точки зрения действительно ведет к обнаружению их подлинного собственника. Только вот собственником этим оказывается не весь народ и не пролетариат, а номенклатура.
Номенклатура — собственник коллективный. В этом нет ровно ничего удивительного. Если форма коллективного владения восторжествовала даже в насквозь индивидуалистическом буржуазном обществе, то номенклатура с ее проповедью спайки и коллективизма, естественно, должна была прийти именно к такой форме.
Эксплуатация в СССР
Ещё Энгельс в письму к Максу Оппенхейму писал:Ведь в том-то и беда, что, пока у власти остаются имущие классы, любое огосударствление будет не уничтожением эксплуатации, а только изменением ее формы.
Итак, теперь, когда мы знаем, что СССР являет собой по сути государство классовое, становится очевидно, что эксплуатация в нём объективно присутствует.
В каких формах?
Здесь Восленский формулирует свой «основной экономический закон реального социализма», который
«состоит в стремлении господствующего класса номенклатуры обеспечить экономическими средствами максимальное укрепление и расширение своей власти».
Именно с этой целью номенклатура сверхмонополизирует своё собственное господство как в промышленности, так и в политике.
Однако сверхмонополизация приводит к эффекту, невиданному в условиях капиталистической экономики: она обнаруживает тенденцию к сдерживанию развития производительных сил.
Из сдерживания развития производительных сил возникает кризис, невиданный для капиталистического способа производства — кризис недопроизводства в СССР. В качестве доказательства поднимается дискуссия о примате группы А (производство средств производства) над группой Б (производство товаров народного потребления).
Восленский … констатирует хроническое недовыполнение планов пятилеток по производству товаров «группы Б», что на деле означает неизбежность хронических дефицитов тех или иных групп товаров народного потребления при реальном социализме. Кроме того, он также разбирает и различные возможности для манипуляций, неизбежно возникающих при работе с большими массивами абстрактных числовых данных, что, в свою очередь, также является актуальной проблемой планирования и по сей день.
Разобрав в общих чертах структуру экономики СССР, историк считает возможным перейти к вопросу об эксплуатации.
Здесь автор зачем-то вносит путаницу, вместо того чтобы сказать прямо и просто: изначально сокращённое время рабочего дня в СССР в итоге было увеличено (что имело, на секундочку, вполне серьёзные на то причины), а интенсификация труда, которая вообще не должна являться проблемой при реальной самоорганизации рабочих, стала активно внедряться в различные способы производства. Критикуется Восленским также низкая заработная плата рабочих, принудительный характер труда, стандартизированный уровень жизни и женский и детский (!) труд, но заострять на этой критике внимание не имеет смысла: она откровенно слаба и мало аргументирована.
Заслуживает внимания осмысление такого феномена, как фактическая заработная плата. Так, если в капиталистических условиях постоянного перепроизводства деньги определяют фактическое благосостояние граждан, то в периодическом кризисе недопроизводства товаров «группы Б» они не имеют решающего значения. Фактическая заработная плата означает, что именно и в каких количествах гражданин будет способен приобрести, а не сколько он заработал. И высокий показатель финансовых накоплений советских граждан демонстрирует нам не благополучие или зажиточность. Скорее, факт, что деньги при реальном социализме подчас просто не находят себе реального применения. А значит потраченные в итоге на товары потребления суммы являются такой же мерой эксплуатации, как и изъятая прибавочная стоимость.
Восленский не утверждает, что вся изъятая в итоге прибавочная стоимость идёт строго на потребление класса номенклатуры. Много большая доля расходуется на работу объективно необходимого аппарата, вооружённые силы, МВД, фонды общественного потребления и так далее. Однако, сама диктатура номенклатуры и фактическая монополизация ей политической власти приводят к волюнтаризму в расходовании средств, преимущество в котором отдаётся сферам, укрепляющим власть самой номенклатуры.
В итоге же, говорит нам Восленский, советское общество:
1. Классовое, и мы видим объективный классовый антагонизм между трудом и управлением, частично признаваемый даже в советской социологии;
2. Классом-гегемоном в нём являются управленцы, а конкретно — люди, занимающие должности из номенклатуры партийного аппарата;
3. Способы эксплуатации в нём отчасти сходны, но отчасти отличаются от способов эксплуатации при капитализме.
И как назвать такой строй, очевидно не являющийся капиталистическим, но при этом и не представляющий собой диктатуру пролетариата? Здесь-то, собственно, Восленский и вспоминает мимоходом брошенное сравнение Джиласа Советского Союза с Древним Египтом.
Деспотия и вопрос об азиатском способе производства
Автор книги утверждает, что несправедливо (а, быть может, и нарочно) забытый азиатский способ производства, на самом деле не рассмотрен классиком в должной мере (что есть совершенная правда). В действительности же, при азиатском способе производства господствующим классом являются никак не государи, и не некое абстрактное «государство».
Господствующим классом при азиатском способе производства является бюрократия.
И Маркс, якобы, подобное осознавая, не стал констатировать очевидный факт именно потому, что боялся критики слева со стороны Бакунина и других анархистов. Ведь если в прошлом мы уже имеем опыт государственных систем с полной национализацией и бюрократическим аппаратом во главе, то тогда угроза перерождения диктатуры пролетариата в «деспотию с одной стороны и рабство с другой», становится очевидной. К тому же, о подобных догадках Маркса можно косвенно судить по его высказываниям к концу жизни, например, о возможности прихода к социализму России и Индии через сохранившиеся в вышеуказанных остатки сельской общины.
Вплотную подойдя к азиатскому способу производства, Восленский обращается к крупнейшему исследователю в этой области, Карлу Виттфогелю. И его гипотезе, что деспотии азиатского типа возникали в первую очередь в местах, где необходимо возведение ирригационных сооружений. Монографию Виттфогеля «Восточный деспотизм», Восленский скрещивает с высказанным ещё Джиласом тезисом о социализме:
Логика приводимого Виттфогелем материала сама подталкивает к выводу: “азиатский способ производства” возникал не только в обществах с ирригационным сельским хозяйством, это лишь частный случай. Общая же закономерность состоит в том, что тотальное огосударствление применяется для решения задач, требующих мобилизации всех сил общества. Использование этого метода — признак не прогресса, а, наоборот, тупика, из которого пытаются выйти, историческое свидетельство о бедности. И прибегнуть к методу тотального огосударствления можно в принципе всюду, где есть государство.
Итак, диктатура номенклатуры сходна с диктатурой бюрократии государств деспотического типа в условиях азиатского способа производства.
Но на этом автор «Номенклатуры» не останавливается. Далее он переходит к, пожалуй, самому спорному тезису всей работы, и утверждает, что фактически большевистская диктатура явилась феодальной реакцией на становление в России капитализма. Итак, представления о социализме возникают в массах задолго до того, как реальные общественные отношения и развитие средств производства подготовляют его возможность. Потому сама идея тотального огосударствления является не формацией, а лишь методом реализации утопии. Далее, согласно Марксу, после феодализма наступает капитализм, и любые попытки помешать становлению капиталистических отношений являются по факту феодальной реакцией. А большевики, сражаясь с капиталом, обеспечили победу феодализму.
Диктатура номенклатуры — это реакция феодальных структур, расшатанных капитализмом, но пытающихся спастись методом тотального огосударствления. “Реальный социализм” — это государственно- монополистический феодализм.
Заканчивает же свою работу Восленский полагая, что феодализм до сих пор изжил себя недостаточно.
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
ПОЧЕМУ СОЦИАЛИЗМ?
http://infosplanet.info/dokumenty/pochemu-socializm-albert-jejnshtejn/
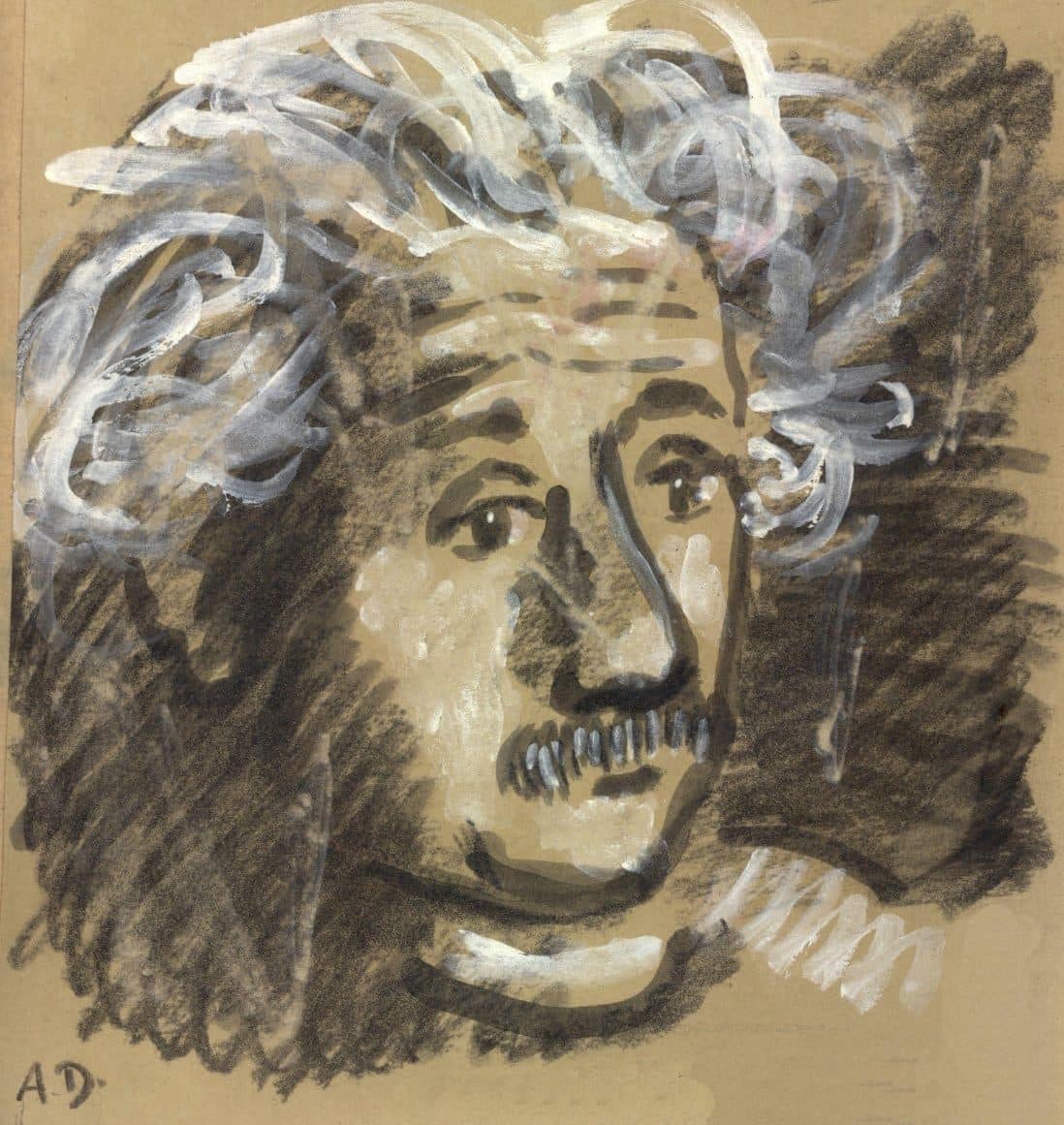
Стоит ли излагать свои взгляды по такому вопросу, как «социализм», человеку, не являющемуся специалистом, ни в экономической, ни в социальной областях? Я полагаю, что по ряду причин стоит.
Давайте в первую очередь рассмотрим этот вопрос с точки зрения научного знания. Может показаться, что нет существенных методологических различий между астрономией и экономикой: ученые в обеих сферах пытаются открыть законы, общеприменимые к определенным группам явлений, с тем чтобы сделать взаимосвязь этих явлений как можно более понятной. Но в действительности такие методологические различия существуют. Открытие общих законов в области экономики затруднено тем обстоятельством, что на наблюдаемые экономические явления часто влияет множество факторов, которые весьма трудно оценивать по отдельности. Кроме того, опыт, накопленный с начала так называемого цивилизованного периода человеческой истории, как известно, подвергался и подвергается серьезным влияниям и ограничениям не только экономического характера. Например, большинство великих держав в истории обязаны своим существованием завоеваниям. Народы-завоеватели утверждали себя юридически и экономически как привилегированный класс завоеванной страны. Они захватывали монопольное право владеть землей, назначали священнослужителей из своей среды. Священники, контролируя образование, превратили классовое деление общества в постоянный институт, создали систему ценностей, которой люди с тех пор, в основном неосознанно, руководствуются в своем социальном поведении. Но историческая традиция, так сказать, дело вчерашнего дня; нигде мы по-настоящему не преодолели то, что Т. Веблен (известный американский экономист и социолог, один из авторов концепции институционализма — прим. ред.) называет «грабительской фазой» развития человечества. Некоторые экономические факты, которые мы наблюдаем, относятся к этой фазе, и даже законы, которые мы можем вывести из них, не применимы ни к одной другой фазе. Поскольку действительная цель социализма состоит именно в том, чтобы преодолеть «грабительскую фазу» в развитии человечества и пойти вперед, экономическая наука в ее нынешнем состоянии может пролить лишь очень незначительный свет на социалистическое общество будущего.
Во-вторых, цель социализма — социально-этическая. Наука же не может создавать цели и еще менее способна вселять их в людей; самое большее — наука может предоставить средства для достижения некоторых целей. Но сами по себе цели постигаются личностями с высокими этическими идеалами, и если эти цели не являются мертворожденными, а жизнеспособны и сильны, их поддерживают и развивают многие люди, которые, наполовину подсознательно, определяют медленную эволюцию общества.
В силу этих причин нам следует быть осторожными и не переоценивать науку и научные методы, когда дело касается человеческих проблем. Не следует также думать, что только эксперты имеют право выражать свое мнение по вопросам организации общества.
В последнее время раздаются бесчисленные голоса, что человеческое общество переживает кризис, что его стабильность серьезно поколеблена. Эту ситуацию характеризует то, что индивидуумы испытывают безразличие или даже враждебность в отношении группы, малой или большой, к которой они принадлежат. Чтобы показать, что я имею в виду, позвольте обратиться к моему личному опыту. Недавно, обсуждая с умным и достойным человеком угрозу войны, которая, по моему мнению, явилась бы серьезной опасностью самому существованию человечества, я заметил, что только наднациональная организация может защитить от этой опасности. На что мой собеседник очень спокойно и холодно сказал мне: «А почему вы так опасаетесь исчезновения человеческой расы?»
Я уверен, что всего лишь век назад никто бы не сделал подобного замечания так легко. Это заявление человека, который тщетно пытался найти равновесие в себе самом и практически утратил надежду на успех. Это выражение болезненного одиночества и изоляции, от которых так многие страдают в наши дни. В чем же причина? Есть ли выход?
Легко поставить такие вопросы, но трудно ответить на них с какой-либо уверенностью. Я должен попытаться сделать все, что могу, хотя хорошо понимаю, что наши чувства и стремления часто противоречивы и невразумительны и что их невозможно выразить в ясных и простых формулах.
Человек — это одновременно личность и социальное существо. Как личность он пытается защитить свое собственное существование и существование своих близких, удовлетворить свои личные желания и развить присущие ему способности. Как существо социальное он стремится получить признание и любовь других людей, разделить их радости, утешить их в печали, улучшить их условия жизни. Только существование этих разных, часто противоречивых стремлений определяет особый характер человека, и от их специфической комбинации зависит степень, в которой индивидуум может достичь внутреннего равновесия и внести вклад в благополучие общества. Вполне возможно, что относительная сила этих двух стремлений в основном зафиксирована наследственностью. Но окончательно личность формируется средой, в которой человек оказывается в процессе своего развития, структурой общества, в котором он растет, традициями этого общества, тем, как оно оценивает различные типы поведения. Абстрактное понятие «общество» означает для индивидуального человеческого существа сумму его прямых и косвенных взаимоотношений с современниками и со всеми предшествовавшими поколениями. Индивидуум способен думать, чувствовать, стремиться, работать самостоятельно, но он настолько зависит от общества в своем физическом, интеллектуальном и эмоциональном существовании, что невозможно рассуждать о нем или понять его вне рамок общества. Это «общество» обеспечивает человека едой, одеждой, жилищем, орудиями труда, наделяет языком, формами и основным содержанием мыслей. Его жизнь возможна благодаря труду и достижениям многих миллионов людей в прошлом и настоящем, всех тех, кто скрывается за маленьким словом «общество».
Поэтому очевидно, что зависимость индивидуума от общества — это факт природы, который не может быть отменен, так же как у пчел и муравьев. Но если весь жизненный процесс муравьев и пчел зафиксирован до мельчайших деталей наследственными инстинктами, то социальная модель и взаимоотношения людей могут варьироваться и поддаются изменениям. Память, способность к новым комбинациям, дар устного общения сделали возможными такие отношения между людьми, которые не диктуются биологической необходимостью. Это проявляется в традициях, общественных институтах и организациях, в литературе, достижениях науки и техники, произведениях искусства. Объясняет, как человек может в некотором смысле влиять на свою жизнь своим собственным поведением и что в этом процессе сознательное мышление и желания могут играть определенную роль.
При рождении человек получает благодаря наследственности биологическую конституцию, которую мы должны считать фиксированной и неизменяемой, включая естественные стремления, характерные для человеческих существ. Кроме того, в течение своей жизни он приобретает культурный склад, который воспринимает от общества через общение и многие другие виды влияния. Именно этот культурный склад с течением времени должен меняться и в очень большой степени определяет отношения между индивидуумом и обществом. Современная антропология учит нас на материалах сравнительного исследования так называемых примитивных культур, что социальное поведение человеческих существ может сильно различаться в зависимости от превалирующих культурных образцов и типов организации, доминирующих в обществе. Именно на этом основывают свои надежды те, кто стремится улучшить судьбу человека: люди не обречены в силу своего биологического склада уничтожать друг друга или быть отданы на милость жестокой и неизбежной судьбе.
Если мы спросим себя, как следует изменить структуру общества и его культуру, с тем чтобы человеческая жизнь стала наиболее благоприятной, то должны постоянно помнить, что есть определенные условия, которые мы не способны изменить. Как отмечалось выше, биологическая природа человека не может быть изменена в практических целях. Более того, технологические и демографические процессы нескольких последних веков создали условия, которые также неизменны. В зонах оседлого и плотного обитания производство необходимых для жизни благ обязательно предполагает разделение труда и высокоцентрализованный производственный аппарат. Время, когда индивидуумы или сравнительно небольшие группы могли находиться на полном самообеспечении, которое при взгляде в прошлое кажется таким идиллическим, ушло навсегда. Будет лишь небольшим преувеличением сказать, что с точки зрения производства и потребления человечество уже сейчас составляет мировое сообщество.
Теперь я могу кратко определить суть современного кризиса. Это отношение индивидуума к обществу. Индивидуум в большей степени, чем когда-либо, осознает свою зависимость от общества. Но он не воспринимает эту зависимость как позитивное явление, как органическую связь, как защищающую его силу, а скорее как угрозу его естественным правам или даже его экономическому существованию. Более того, его положение в обществе таково, что его эгоистические стремления постоянно увеличиваются, в то время как его социальные, более слабые по своей природе, стремления все более распадаются. Все люди независимо от их позиции в обществе страдают от этого процесса. Будучи, сами того не сознавая, узниками собственного эгоизма, они чувствуют себя беззащитными, одинокими, лишенными способности наивно, просто, не задумываясь наслаждаться жизнью. Человек может найти смысл в жизни — такой короткой и полной опасностей, — только посвятив себя обществу.
Экономическая анархия капиталистического общества в том виде, в каком оно существует сегодня, — вот, по моему мнению, реальный источник зла. Мы видим огромную массу производителей, которые неустанно стремятся лишить друг друга плодов своего коллективного труда — не силой, но в соответствии с законно установленными правилами. В этом плане важно, что средства производства, то есть все производственные мощности, необходимые для производства потребительских товаров, а также все новых капиталовложений, могут законно быть и по большей части являются частной собственностью отдельных лиц.
Для простоты далее я буду называть «рабочими» всех тех, кто не относится к собственникам средств производства, хотя это не вполне соответствует привычному применению этого термина. Собственник средств производства в состоянии приобрести рабочую силу. Используя средства производства, рабочий производит новые товары, которые становятся собственностью капиталиста. Здесь важно именно соотношение между реальной стоимостью того, что рабочий производит, и того, что ему платят. До тех пор, пока трудовой контракт является «свободным», то, что получает рабочий, определяется не реальной стоимостью произведенных им товаров, но его минимальными потребностями и спросом капиталистов на рабочую силу и ее предложением. Важно понять, что даже в теории оплата рабочего не определяется стоимостью того, что он произвел.
Налицо тенденция частного капитала ко все большей концентрации. Частично из-за конкуренции между капиталистами, частично потому, что развитие технологии и растущее разделение труда стимулируют формирование более крупных производственных единиц за счет мелких. Результатом такого развития является олигархия частного капитала, колоссальная власть которого не может эффективно контролироваться даже в демократическом обществе. Это так, поскольку члены законодательных органов избираются политическими партиями, которые в основном финансируются и подвергаются влиянию со стороны частных предпринимателей, стремящихся в практических целях отдалить электорат от законодателей. В результате представители народа неэффективно защищают интересы непривилегированных групп населения. Более того, в существующих условиях частные предприниматели неизбежно, прямо или косвенно, контролируют главные источники информации (прессу, радио, образование). Поэтому обычному гражданину невероятно трудно, а в большинстве случаев просто невозможно прийти к объективным выводам и с умом использовать свои политические права.
Ситуация, господствующая в экономике, основанной на капиталистической частной собственности, характеризуется, таким образом, двумя главными принципами: во-первых, средства производства (капитал) являются частной собственностью и собственники распоряжаются ими по своему усмотрению; во-вторых, трудовой контракт является свободным. Конечно, в этом смысле чистого капиталистического общества не существует. В частности, следует отметить, что рабочие, благодаря длительной и острой политической борьбе, добились успеха, обеспечив некоторым категориям рабочих «улучшенную» форму свободного трудового контракта. Но в целом сегодняшняя экономика ненамного отличается от «чистого» капитализма.
Производство осуществляется ради прибыли, а не для пользы, но нет гарантии, что все, кто хочет и может работать, наверняка смогут найти работу; почти всегда существует армия безработных. Рабочий постоянно боится потерять работу. Поскольку безработные и низкооплачиваемые рабочие не образуют доходного рынка, производство потребительских товаров ограниченно, результатом чего являются серьезные трудности. Технический прогресс зачастую приводит к росту безработицы, а не к облегчению тягот труда. Ориентация на прибыль в соединении с конкуренцией между капиталистами — вот причина нестабильности в накоплении и использовании капитала, что ведет ко все более серьезным депрессиям. Неограниченная конкуренция приводит ко все большей растрате труда и таким образом уродует социальное сознание личностей, о чем я упоминал выше.
Это уродование личностей я считаю самым большим злом капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Чрезмерное чувство конкуренции прививается студентам, которых приучают высоко ставить успех как подготовку к будущей карьере.
Я убежден, что есть лишь один путь покончить со всем этим злом, а именно через создание социалистической экономики с соответствующей ей системой образования, ориентированной на социальные цели. В такой экономике само общество владеет средствами производства и распоряжается ими на плановой основе. Плановая экономика приспосабливает производство к нуждам общества, распределяет работу среди трудоспособных и гарантирует средства к жизни каждому мужчине, женщине и ребенку. Вместо прославления власти и успеха, как в нашем сегодняшнем обществе, образование в дополнение к развитию собственных внутренних способностей личности будет направлено на развитие в ней чувства ответственности за других людей.
Тем не менее необходимо помнить, что плановая экономика — это еще не социализм. Плановая экономика как таковая может сопровождаться полным порабощением личности. Достижение социализма требует разрешения некоторых исключительно сложных социально политических проблем, например: как с учетом далеко идущей централизации политической и экономической власти предотвратить превращение бюрократии в силу, обладающую всей полнотой власти? Как защитить права личности и вместе с тем гарантировать демократический противовес власти бюрократии? Цели и проблемы социализма непросты, и ясность в их понимании имеет величайшее значение в наш переходный век. Поскольку в нынешних условиях свободная, без помех дискуссия по этим проблемам находится практически под запретом, я полагаю, что создание этого журнала (Monthly Review — прим. ред.) сослужит обществу большую службу.
А. Эйнштейн
Перевод Л. Коротеевой
В мае 1949 года создатель теории относительности описал свои взгляды на вопрос социализма в статье «Почему социализм?» (Why socialism). Эта идея посетила Эйнштейна после разговора с известным американским политэкономиста-марксиста Пола Суизи. Впоследствии эссе Альберта Эйнштейна «Почему социализм?» было помешено в первый номер журнала Monthly Review (Месячное обозрение).
На сегодняшний день Monthly Review является старейшим в США журналом социалистической тематики. Важно заметить, что в тот момент в США еще не началась антикоммунистическая истерия, получившая впоследствии название «маккартизм», по имени сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти во многом начавшего репрессивные движения против американских коммунистов в 1950 году. Хотя холодная война ужа стартовала, но в 49 году было еще спокойно, и Эйнштейн мог высказаться свободно, не боясь косых взглядов. С другой же стороны, к тому времени он имел уже мировую известность и, возможно, в виду этого имел некоторую «защиту». В следующий раз эссе было опубликовано в мае 1998 года Monthly Review в честь пятидесятилетия журнала.
Эссе «Почему социализм?» не стоит рассматривать как заявление Альберта Эйнштейна в конкретном приверженстве социалистическим или коммунистическим взглядам. Эйнштейн с 1945 года занимался активной пропагандой мира и гуманизма и, несмотря о высказываниях в эссе о зле исходящем из капитализма, оно, данное эссе, в первую очередь есть декларация именно гуманистических взглядов великого физика. Об этом четко свидетельствуют критические высказывания в сторону плановой экономики в конце статьи – «плановая экономика — это еще не социализм. Плановая экономика как таковая может сопровождаться полным порабощением личности».
Цитаты
«Я чту в Ленине человека, который с полным самопожертвованием отдал все свои силы делу осуществления социальной справедливости. Я не считаю его метод целесообразным. Но одно бесспорно: подобные ему люди являются хранителями и обновителями совести человечества».
Альберт Эйнштейн, 1929
«Множатся признаки того, что русские процессы представляют собой никакое не мошенничество; на самом деле речь идет о заговоре, в глазах которого Сталин — тупой реакционер, который предал идею революции».
Альберт Эйнштейн, 1937
О пределах творческой возможности человеческого мышления
Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира; и это не только для того, чтобы преодолеть мир, в котором он живет, но и для того, чтобы в известной мере попытаться заменить этот мир созданной им картиной. Этим занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни.
Какое место занимает картина мира физиков-теоретиков среди всех возможных таких картин? Благодаря использованию языка математики эта картина удовлетворяет наиболее высоким требованиям в отношении строгости и точности выражения взаимозависимостей. Но зато физик вынужден сильнее ограничивать свой предмет, довольствуясь изображением наиболее простых, доступных нашему опыту явлений, тогда как
Я думаю,— да, ибо общие положения, лежащие в основе мысленных построений теоретической физики, претендуют быть действительными для всех происходящих в природе событий. Путем чисто логической дедукции из них можно было бы вывести картину, т. е. теорию всех явлений природы, включая жизнь, если этот процесс дедукции не выходил бы далеко за пределы творческой возможности человеческого мышления. Следовательно, отказ от полноты физической картины мира не является принципиальным.
Отсюда вытекает, что
Альберт Эйнштейн
"ФИЗИКА И РЕАЛЬНОСТЬ"
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1336>
Ха Джун Чхан
23 ТАЙНЫ:
то, что вам не расскажут про капитализм
2011
(Конспект)

Ха Джун Чхан — корейский экономист, профессор Кембриджского университета. Лауреат Леонтьевской премии (2005). Отец — бывший министр промышленности и энергетики. Младший брат — историк и философ науки, профессор Кембриджского университета Хасок Чхан. Бакалавр Сеульского национального университета. Труды Чхана оказали огромное влияние на экономиста и президента Эквадора Рафаэля Корреа. Родился 7 октября 1963 г.
ВВЕДЕНИЕ
Кризис 2008 года по-прежнему остается в памяти человечества вторым по глубине экономическим кризисом в истории после Великой депрессии. Эта катастрофа, в конечном счете, явилась логичным следствием идеологии свободного рынка, которая правит миром с 1980-х годов.
То, что произошло в мировой экономике, не было случайностью или следствием действия непреодолимой силы. Будь приняты иные решения, мир оказался бы совершенно другим.
Без активного экономического гражданства мы обречены оставаться жертвами людей, которые имеют возможность решать за нас, которые объясняют нам, что все происходит потому, что так надо, а значит, изменить что-либо невозможно, какими бы тяжелыми и несправедливыми ни казались эти решения.
Моя книга призвана наделить читателя пониманием того, как на самом деле устроен и работает капитализм, и как можно заставить его работать лучше. Я верю, что 95 процентов экономики — это здравый смысл и даже оставшиеся 5 процентов можно разъяснить простыми словами.
1. ПОНЯТИЯ «СВОБОДНЫЙ РЫНОК» НЕ СУЩЕСТВУЕТ
В 1819 году на обсуждение британского парламента был вынесен новый законопроект, регламентирующий детский труд: Акт о регулировании труда на бумагопрядильных фабриках. Он запрещал принимать на работу маленьких детей — то есть, тех, кому еще не исполнилось девяти лет. При этом детям постарше (в возрасте от десяти до шестнадцати лет) по-прежнему разрешалось работать, но количество рабочих часов для них сокращалось до двенадцати в день.
Обсуждая законопроект, некоторые члены палаты лордов высказывались против на том основании, что «труд должен быть свободным». Их аргумент гласил: дети хотят работать (и им нужна работа), а владельцы фабрик хотят принимать их на работу, так что же в этом плохого?
Сегодня даже самым горячим сторонникам свободного рынка в Британии и других богатых странах и в голову не придет снова включить детский труд в пакет требований либерализации рынка, которой они так жаждут. Однако до конца XIX — начала XX века, когда в Европе и Северной Америке были введены первые серьезные ограничения на использование детского труда, многие уважаемые люди рассматривали регулирование детского труда как противоречащее принципам свободного рынка.
Если степень свободы одного и того же рынка различными людьми оценивается по-разному, то значит, объективного способа оценить, насколько свободен этот рынок, не существует. Иными словами, свободный рынок — это иллюзия. Если некоторые рынки с виду кажутся свободными, то только потому, что мы всецело одобряем ограничения, на которых они базируются, и поэтому эти ограничения становятся для нас незаметны.
Рынки держатся на ограничениях — и достаточно многочисленных. Начнем с того, что существует огромное количество разнообразных ограничений на то, чем можно торговать. Голоса на выборах, посты в правительстве и судебные решения в современной экономике не подлежат продаже, по крайней мере открыто, хотя в прошлом в большинстве стран они вполне считались товаром. Учебные места в университетах обычно не продаются, хотя в некоторых странах их можно купить за деньги — либо незаконным путем, платя экзаменаторам, либо законным, делая пожертвования в пользу университета. Многие страны запрещают торговлю огнестрельным оружием и алкоголем. Лекарства, как правило, перед выпуском на рынок безоговорочно подлежат государственному лицензированию, подтверждающему их безопасность. Правомерность всех этих ограничений может показаться спорной — каковым полтора века назад был запрет на продажу человеческих существ, работорговлю.
Вдобавок существуют и ценовые ограничения. Заработная плата в богатых странах в большей степени определяется иммиграционным контролем, чем каким-либо другим фактором, включая любые законы о минимальной заработной плате. Как определяется иммиграционный максимум? Не «свободным» рынком труда, на котором, если дать ему волю, рано или поздно 80–90% местных работников сменят более дешевые, а зачастую и эффективнее работающие иммигранты. Иммиграцию, по большей части, определяет проводимая в стране политика. Так что все наши зарплаты, в основе своей, политически обусловлены.
Даже в спокойные времена процентные ставки в большинстве стран устанавливает центральный банк, а это означает, что в дело незаметно вступают политические соображения. Иными словами, процентные ставки также определяются политикой.
Если зарплаты и процентные ставки в значительной степени политически обусловлены, то политически обусловлены и остальные цены, поскольку они связаны с зарплатами и процентными ставками.
В июле 2008 года, когда американская финансовая система потерпела крах, правительство США вложило 200 миллиардов долларов в ипотечных заимодателей «Фанни Мэй» и «Фредди Мак» и национализировало их. Согласно плану, объявленному 19 сентября 2008 года президентом Джорджем Бушем-младшим и впоследствии названному «Программой по спасению проблемных активов», правительство США выделяло из средств налогоплательщиков по меньшей мере 700 миллиардов долларов, чтобы выкупить «токсичные активы», и блокировало тем самым финансовую систему.
Президент Буш утверждал, что план является развитием американской системы свободного предпринимательства,которая «зиждется на убеждении, что федеральное правительство должно вмешиваться в рыночный процесс только в случае необходимости». И национализация огромной доли финансового сектора была вызвана, по его мнению, наступлением одного из подобных случаев.
Как отчетливо показывает это заявление, что является необходимым государственным вмешательством, совместимым с рыночным капитализмом, а что нет — это лишь вопрос точки зрения. Научно определенных границ свободного рынка не существует. Если существующие границы какого-либо отдельного рынка не являются неприкосновенными, то попытка изменить их столь же законна, как и попытка защитить. В сущности, история капитализма представляет собой постоянную борьбу за изменение границ рынка. Признание того факта, что границы рынка размыты и не могут быть очерчены объективно, позволяет нам понять, что экономика — не наука, подобно физике или химии, но политическая практика.
Вырваться из плена иллюзии объективности рынка — вот первый шаг на пути к пониманию капитализма.
2. КОМПАНИЯМИ НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ В ИНТЕРЕСАХ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Вы, вероятно, замечали, что у множества компаний в англоязычном мире присутствует в названии буква «L» — PLC, LLC, Ltd и пр. Буква «L» в этих аббревиатурах означает «limited» («ограниченный»), что есть сокращение от «limited liability» — «с ограниченной ответственностью. «Ограниченная ответственность» означает, что в случае банкротства компании инвесторы, вложившие деньги в компанию, потеряют только то, что они вложили (свой «пай»). Именно эти слова с буквой «L» сделали возможным современный капитализм.
До изобретения в Европе XVI века общества с ограниченной ответственностью — или «общества на паях», как оно называлось в ранние годы, — бизнесмены, основывая предприятие, рисковали всем. Неудачливый бизнесмен для уплаты долга должен был продать все свое личное имущество, мог и в долговую тюрьму отправиться. Чудо, что кто-то вообще испытывал желание основать бизнес.
До середины XIX века чтобы учредить компанию с ограниченной ответственностью, необходима была королевская грамота (или, в республике, правительственный декрет). Считалось, что те, кто управляет компанией с ограниченной ответственностью, не владея ею на сто процентов, будут идти на чрезмерные риски, поскольку часть денег, которыми они рискуют, — не их собственные. В то же время инвесторы, вкладывающие деньги в общества с ограниченной ответственностью, но не участвующие в управлении компанией, тоже не слишком бдительно следят за деятельностью управляющих, поскольку их собственные риски ограничены вложенным ими капиталом.
Однако к середине XIX века, с появлением крупной промышленности, такой как железные дороги, сталелитейная и химическая промышленность, потребность в ограниченной ответственности стала ощущаться все более остро. Очень немногие предприниматели располагали достаточно большим состоянием, чтобы в одиночку основать сталелитейный завод или железную дорогу.
Маркс пророчески называл акционерную компанию «капиталистическим производством в высшем его проявлении». Он полагал, что акционерная компания — «точка перехода» к социализму, поскольку она разделяет владение и управление и, тем самым, дает возможность уничтожить капиталистов (которые больше не управляют фирмой), не ставя под удар достигнутый капитализмом материальный прогресс.
В первое время существования обществ с ограниченной ответственностью многими крупными фирмами руководили харизматические предприниматели — такие, как Генри Форд, Томас Эдисон или Эндрю Карнеги, — которые владели значительной долей компании. Хотя такой директор-совладелец мог злоупотребить своим положением и пойти на неоправданный риск (что они зачастую и делали), этому риску был предел. Но начиная с 1930-х годов, все чаще говорят о рождении управленческого капитализма, при котором капиталистов в традиционном понимании сменили профессиональные бюрократы. Нарастало беспокойство, что эти наемные управленцы руководят предприятиями в собственных интересах, а не в интересах законных владельцев, то есть акционеров.
В течение нескольких последующих десятилетий более последовательные сторонники частной собственности были уверены, что управленческие стимулы должны формироваться так, чтобы директора максимизировали прибыли. Многие светлые умы работали над этой проблемой «модели мотивации», но «святой Грааль» не давался им в руки. Директорам всегда удавалось найти способ соблюсти букву контракта, но не его дух, особенно в тех случаях, когда акционерам непросто проверить, обусловлена ли плохая динамика прибыли результатом недостаточного внимания менеджера к показателям прибыли или она вызвана силами, ему неподвластными.
И вот в 1980-х Грааль был найден. Он назывался «принцип максимизации акционерной стоимости». Утверждалось, что профессиональные управленцы должны получать вознаграждение в соответствии с величиной дохода, которую они могут обеспечить акционерам. Эту идею поддерживали не только акционеры, но и многие руководители компаний, среди самых известных из них был Джек Уэлч, долгое время занимавший пост председателя совета директоров «Дженерал электрик».
Поначалу казалось, что эта идея превосходно работает. На глазах управляющих величина их вознаграждения взлетела, но акционеры, довольные постоянно растущими курсами акций и дивидендами, перестали задавать вопросы о размерах зарплатных пакетов. Подобная практика вскоре получила распространение и в других странах — с большей легкостью в таких, как Великобритания, где структура управления корпорациями и культура управления были схожи с американскими, и не так легко в других странах.
Средства на поддержание этого «союза нечестивых» между акционерами и профессиональными менеджерами были целиком получены за счет интересов других действующих лиц компании. Рабочие места безжалостно сокращались, многих рабочих уволили и снова наняли, но уже как не членов профсоюза, на более низкую зарплату и с меньшими льготами, повышение зарплат было приостановлено (зачастую за счет перевода производства в страны с низкими зарплатами, например, в Китай или Индию, или привлечения дешевой рабочей силы из таких стран, или же под угрозой осуществления подобных шагов). Правительство было вынуждено понижать ставки налогов на корпорации и/или предоставлять им больше субсидий, под угрозой ухода компаний в страны с более низкими налогами и/или более высокими субсидиями.
В результате стремительно возросло неравенство в доходах. Подавляющее большинство населения Америки и Великобритании могло приобщиться к этому — исключительно внешнему — процветанию только посредством займов под беспрецедентные проценты. Рост доли прибыли в национальном доходе, начавшийся еще в 1980-х годах, также не был использован для увеличения инвестиций. Темп прироста дохода на душу населения в США упал приблизительно с 2,6% в год в 1960–1970-х гг. до 1,6% за 1990–2009 гг.
Самое неприятное в максимизации акционерной стоимости — то, что она не приносит добра и самой компании. К сожалению, несмотря на то, что акционеры являются полноправными владельцами компании, среди всех прочих сторон именно их в наименьшей степени интересует ее долгосрочная стабильность. Это происходит потому, что именно им легче всех выйти из компании: как только они сообразят, что не следует слишком долго держаться за безнадежное дело, то им достаточно просто продать свои акции, пусть даже с небольшой потерей. Остальным же заинтересованным сторонам, таким как рабочие и поставщики, напротив, труднее покинуть компанию и найти другое занятие.
Ограниченная ответственность способствовала мощному прогрессу производительных сил, позволив накопить огромные капиталы, именно потому, что предложила акционерам возможность легкого выхода из компании, сократив тем самым риск, неизбежный при любых инвестициях. Но в то же время именно подобная легкость выхода делает акционеров ненадежными гарантами долгосрочного будущего компании.
Поэтому большинство богатых стран за пределами англо-американского мира постарались сократить влияние миноритариев и поддерживать различными официальными и неофициальными способами группу долговременных партнеров — включая часть акционеров. Во многих странах существенной долей собственности на ключевых предприятиях владеет правительство. В ряде стран, таких как Швеция, разрешено прибегать к дифференцированному праву голоса для различных классов акций, что позволило семьям основателей сохранить значительный контроль над корпорацией, привлекая в то же время дополнительный капитал. В некоторых странах в управление компании входят официальные представительства рабочих, которые больше ориентированы на долгосрочное сотрудничество, чем миноритарии (в частности, представители профсоюзов присутствуют в наблюдательных советах компаний в Германии). В Японии компании свели до минимума влияние миноритариев, введя взаимное участие в акционерном капитале с дружественными компаниями. В результате в этих странах профессиональным управляющим и колеблющимся акционерам сформировать «союз нечестивых» гораздо труднее. Все это означает, что в конечном итоге они могут стать более конкурентоспособными, чем американские или британские компании. Управлять компаниями в интересах миноритариев не только несправедливо, но и неэффективно — как для национальной экономики, так и для самой компании.
Как недавно признался Джек Уэлч, акционерная стоимость — пожалуй, «глупейшая идея на свете».
3. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ В БОГАТЫХ СТРАНАХ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНИ ТОГО ЗАСЛУЖИВАЮТ
Водитель автобуса в Индии, в Нью-Дели, получает около 18 рупий в час. Шведский водитель — назовем его Свен — получает в пятьдесят раз больше индийского водителя — назовем его Рам.
Рам, скорее всего, намного более квалифицированный водитель, чем Свен. Свен может быть хорошим водителем по шведским меркам. Но приходилось ли ему когда-нибудь в жизни объезжать на дороге корову, что Раму приходится проделывать регулярно, чуть ли не каждую минуту выбирать дорогу между повозками с впряженными в них волами, между рикшами и велосипедами?
Главная причина, по которой Свен получает в пятьдесят раз больше, чем Рам, — это протекционизм: шведские работники защищены от конкуренции со стороны работников из Индии и других бедных стран иммиграционным контролем. И мы говорим не только о малоквалифицированных рабочих, вроде уборщиц или дворников. Огромное количество инженеров, банковских служащих и программистов в Шанхае, Найроби или Кито с легкостью способны заменить своих коллег в Стокгольме, Линчепинге или Мальме.
Я отнюдь не утверждаю, что иммиграционный контроль необходимо отменить. Возможности «переварить» иммигрантов, которые зачастую имеют совсем иные культурные традиции, ограничены у любого общества, и было бы ошибкой требовать, чтобы страна превышала этот лимит.
Что касается состава иммигрантов, то, с точки зрения развивающихся стран, большинство богатых стран принимает слишком много «неправильных» людей. Некоторые государства фактически продают свои паспорта по схемам, согласно которым те, кто привозит с собой определенный объем «инвестиций», получают гражданство практически сразу. Подобная схема лишь усугубляет недостаток капиталовложений, от которого страдает большинство развивающихся стран. Богатые страны также способствуют и утечке мозгов из развивающихся стран тем, что охотнее принимают переселенцев, обладающих высокой квалификацией. А это люди, которые, останься они у себя на родине, внесли бы более значимый вклад в развитие своих стран, чем неквалифицированные иммигранты.
Основная причина, почему Свену платят в пятьдесят раз больше, чем Раму, состоит в том, что Свен делит свой рынок труда с другими людьми, которые работают не в пятьдесят раз, а намного более эффективно, чем их индийские коллеги.
Люди в богатых странах в сотни раз производительнее своих коллег в бедных странах не просто потому, что умнее и лучше образованы (и даже в основном не поэтому). Они достигают большей эффективности потому, что живут в условиях экономики с более совершенными технологиями, лучше организованными фирмами, лучше работающими институтами и более развитой материальной инфраструктурой — всем тем, что во многом создано коллективными усилиями, предпринимаемыми на протяжении многих поколений.
Широко распространенное убеждение, что если оставить рынок в покое, то всем будут платить правильно, а значит, справедливо, по заслугам, — это миф.
4. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИЗМЕНИЛА МИР БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО ИЗМЕНИЛ ИНТЕРНЕТ
Интернет-революция оказалась (по крайней мере, на данный момент) не столь значимой, как распространение стиральных машин и прочей домашней техники, которая, заметно снизив затраты сил и времени на выполнение работ по дому, позволила женщинам выйти на рынок труда и фактически уничтожила такую профессию, как домашняя прислуга.
Основная причина, по которой в богатых странах настолько меньше домашних слуг, — это более высокая сравнительная стоимость труда. В результате в богатых странах домашние слуги стали роскошью, которую себе могут позволить только богатые, тогда как в развивающихся странах прислуга до сих пор сравнительно дешева, чтобы пользоваться спросом даже у низов среднего класса.
Распространение бытовой техники, а также электричества, водопровода и газа, полностью изменило образ жизни женщин, а соответственно, и мужчин. Оно позволило намного большему числу женщин выйти на рынок труда. Вместе с появлением возможностей работы вне дома, возросли расходы на детей, что вынудило семьи заводить меньше детей.
Разумеется, отмеченные изменения произошли не исключительно — или даже не преимущественно — вследствие изменений в области бытовой техники. Мощное влияние на женское образование и на рост активности женщин на рынке труда оказали «волшебные таблетки» и другие контрацептивы, позволившие им контролировать время наступления и регулярность беременности.
Ряд исследователей предпринимали попытки обнаружить положительное влияние Интернета на общую производительность — как выразился лауреат Нобелевской премии экономист Роберт Солоу, «свидетельства тому есть везде, только не в цифрах».
Преклонение перед революцией ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), которую олицетворяет Интернет, заставило некоторые богатые страны — особенно США и Великобританию — прийти к неверным выводам о том, что производство вещей настолько «вчерашний» процесс, что надо стараться жить за счет эксплуатации идей. Вера в «постиндустриальное общество» вынудила эти страны с излишним пренебрежением отнестись к производственному сектору, что имело неблагоприятные последствия для национальных экономик.
Увлечение всем новым заставило людей поверить, что недавние технологические изменения в сфере коммуникации и транспорта настолько революционны, что сейчас мы живем в «мире без границ». Веря в такой мир, многие правительства сняли ряд очень нужных ограничений на приток капитала, труда и товаров из-за границы, что привело к печальным результатам.
Мои примеры призваны показать, что технический фактор формирует экономическое и социальное развитие при капитализме намного более сложным образом, чем принято считать.
5. ПРЕДПОЛОЖИТЕ О ЛЮДЯХ ХУДШЕЕ, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ХУДШЕЕ
Стремление к личной выгоде — у большинства людей самая сильная черта. Но это не единственная сила, движущая нами. Очень часто она даже не является нашим основным мотивом. Если бы мир был заполнен корыстолюбцами из учебников по экономике, он бы забуксовал, поскольку мы бы только и делали, что обманывали, пытались поймать обманщиков и наказывали пойманных.
В середине 1990-х годов я приехал в Японию на конференцию по «восточноазиатскому чуду», организованную Всемирным банком. Экономисты, поддерживающие позицию Всемирного банка, заявляли, что вмешательство правительства оправдало себя в Восточной Азии лишь потому, что чиновники в этих странах исключительно бескорыстны и профессиональны. С этим моментом соглашались даже некоторые из тех экономистов, которые одобряли активную роль правительства.
Слушая эту полемику, некий благородного вида японский господин из публики поднял руку. Представившись одним из топ-менеджеров «Кобе стил», на тот момент четвертого по величине производителя стали в Японии, он сказал: «Вы, экономисты, не отдаете себе отчет, как работает реальный мир. У меня степень по металлургии, и я уже почти тридцать лет работаю в “Кобе стил”, так что имею некоторое представление о том, как выплавляется сталь. Но моя компания сейчас столь велика и сложно устроена, что даже я не понимаю половины того, что в ней происходит. Что до остальных менеджеров — с образованием в области бухгалтерии и маркетинга, — они вообще мало что представляют. Несмотря на это, наш совет директоров регулярно одобряет большинство проектов, предлагаемых нашими сотрудниками для блага компании. Если бы мы все время исходили из того, что каждый действует, лишь преследуя собственные интересы, и подвергали сомнению мотивы, которые движут нашими работниками, то компания бы встала, поскольку мы бы тратили все время на разбор предложений, в которых ничего не понимаем. Вы просто не сможете управлять большой бюрократической организацией, будь то “Кобе стил” или правительство, если будете исходить из того, что каждый печется лишь о собственном благе».
Рыночные экономисты исходят из предположения, что рынок перенаправляет худшие проявления человеческой природы — эгоизм, или, если хотите, жадность, — в более продуктивные и социально полезные: владельцы магазинов не станут обманывать вас, если у них за углом будет располагаться конкурент; рабочие не посмеют лодырничать, если будут знать, что им легко найдется замена; наемные директора не смогут обирать акционеров, потому что директора, дающие самую низкую прибыль, а значит, понижающие цену акций, рискуют потерять работу в результате поглощения своей компании.
Для рыночных экономистов государственные служащие — политики и правительственные чиновники — представляют собой уникальный вызов. Поскольку на них рыночная дисциплина не распространяется, то рыночные факторы слабо сдерживают преследование ими собственных интересов. Следовательно, доля экономики, контролируемой политиками и бюрократами, должна быть сведена к минимуму, рекомендуют рыночные экономисты.
Сокращение государственного регулирования и приватизация в этой связи не только экономически эффективны, но и политически разумны, поскольку минимизируют саму возможность того, что государственные чиновники станут использовать государство как средство продвижения собственных интересов в ущерб общественной пользе. Некоторые из экономистов — сторонники так называемой «новой модели государственного управления» — заходят еще дальше и рекомендуют сделать так, чтобы и работа правительства подчинялась действию рыночных сил: решительнее вводить оплату по результатам работы и краткосрочные контракты для чиновников; чаще передавать государственные контракты для выполнения в частный сектор; проводить более активную ротацию кадров между государственным и частным секторами.
Капиталисты ранней эпохи массового производства считали, что конвейер, полностью лишив рабочих контроля над скоростью и интенсивностью работы, а значит, и возможности саботажа, максимально увеличит производительность труда. Но вскоре эти капиталисты обнаружили, что, будучи лишенными самостоятельности и чувства собственного достоинства, рабочие в ответ становились пассивны, бездумны и даже конфликтны. Поэтому, начиная с возникшей в 1930-х годах «школы человеческих отношений», которая утверждала необходимость налаживания хороших контактов с рабочими и между рабочими, появилось множество управленческих подходов, подчеркивающих многогранность мотивации человека и предлагающих способы добиться от рабочих как можно большего. Вершиной такого подхода является так называемая японская производственная система, которая использует добрую волю и творческий потенциал сотрудников, возлагая на них ответственность и доверяя им как людям, отвечающим за свои действия. Не предполагая о своих рабочих худшее, японские компании получили от них лучшее, на что те способны.
Нравственность — не иллюзия. Когда люди что-то совершают бескорыстно — не обманывают клиентов, хорошо работают, хотя никто за ними не следит, или не берут взяток, будучи низкооплачиваемым чиновником, — многие из них, если не все, делают так потому, что искренне верят, что так и должно быть. Мы рождаемся в обществе с определенными моральными устоями и воспитанием подготавливаемся к тому, чтобы «вобрать в себя» эти моральные устои.
6. ВЫСОКАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НЕ СДЕЛАЛА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНОЙ
В январе 1923 года французские и бельгийские войска оккупировали Рурскую область Германии, славящуюся углем и сталью. Причиной послужило то, что за 1922 год немцы серьезно запаздывали с выплатой репараций по Версальскому договору, завершившему Первую мировую войну.
Если бы французы и бельгийцы желали денег, им бы следовало оккупировать банки. Почему же они так не сделали? Потому, что их беспокоила германская инфляция. Начиная с лета 1922 года, инфляция в Германии стала выходить из-под контроля. Франции и Бельгии резонно было оккупировать Рур, чтобы обеспечить себе получение репараций товарами, такими как уголь и сталь, а не бесполезной бумагой, чья ценность стремительно уменьшалась. После оккупации Рура инфляция в Германии стала совершенно неуправляемой — цены поднялись еще в 10 миллиардов раз (да, миллиардов, не тысяч и даже не миллионов), пока в ноябре 1923 года не была введена новая валюта, рентная марка.
Германская гиперинфляция оставила на развитии германской, да и мировой истории глубокие и долго не заживавшие следы. Есть мнение, и не безосновательное, что гиперинфляция заложила основы для подъема нацизма, дискредитировав либеральные институты Веймарской республики. Те, кто придерживаются этой точки зрения, в сущности утверждают, что германская гиперинфляция 1920-х годов стала одной из основных причин Второй мировой войны. Говоря о последствиях германской гиперинфляции, мы ведем речь об ударной волне, продолжавшейся почти столетие после самого события и оказавшей воздействие не только на Германию, но и на европейскую, и на мировую историю.
Гиперинфляция подрывает саму основу капитализма, превращая рыночные цены в пустой звук. В разгар венгерской инфляции 1946 года цены вырастали вдвое каждые 15 часов, а в худшие дни германской гиперинфляции 1923 года цены удваивались каждые четыре часа. Кроме того, гиперинфляция часто является результатом или причиной политических катастроф, таких как приход к власти Адольфа Гитлера или Роберта Мугабе. Вполне понятно, почему люди отчаянно стремятся избежать гиперинфляции.
Но не всякая инфляция — гиперинфляция.
С 1980-х годов экономисты-рыночники убеждают — и сумели убедить — весь остальной мир, что к экономической стабильности, которую они определяют как очень низкую (в идеале, нулевую) инфляцию, нужно стремиться любой ценой, поскольку инфляция вредна для экономики. Приемлемый уровень инфляции, которого они рекомендуют достичь, составляет около 1–3%.
Но на самом деле нет никаких подтверждений тому, что инфляция (на низком уровне) вредна для экономики. Опыт некоторых стран подсказывает, что довольно высокая инфляция совместима даже со стремительным экономическим ростом. В 1960–1970-х годах Бразилия имела средний показатель инфляции в 42%, но была одной из самых быстроразвивающихся стран мира, и ее доход на душу населения вырастал на 4,5% в год. В тот же период доход на душу населения в Южной Корее увеличивался на 7% в год, несмотря на среднегодовой уровень инфляции почти на 20 %. Более того, имеются данные, что излишне активные антиинфляционные меры могут нанести экономике вред.
Почему так происходит? Потому что меры, направленные на сокращение инфляции, если их слишком форсировать, сокращают инвестиции и тем самым — экономический рост.
Если реальные процентные ставки установлены на уровне 8,10 или 12%, это означает, что потенциальные инвесторы не сочтут нефинансовые капиталовложения привлекательными, поскольку мало какие из таких инвестиций приносят доходы выше 7%. В этом случае, единственный вариант прибыльного инвестирования — вложение в высокорискованные, высокоприбыльные финансовые активы. Но, несмотря на то, что финансовые инвестиции могут на время подстегнуть экономический рост, такой рост не может продолжаться долго, поскольку эти инвестиции рано или поздно должны быть подкреплены стимулирующими эффективную деятельность долгосрочными вложениями в сфере материального производства, как наглядно показал финансовый кризис 2008 года.
С 1980-х, а особенно с 1990-х годов контроль над инфляцией во многих странах стоял среди важнейших задач на повестке дня. Странам настойчиво рекомендовалось ограничивать государственные расходы, чтобы дефицит бюджета не активизировал инфляцию. Также предлагали предоставить Центробанку политическую независимость, с тем, чтобы он мог достаточно высоко поднять процентные ставки — если необходимо, даже вопреки протестам общественности, чему политики сопротивляться не могли.
Особенно успешно битва с инфляцией шла в богатых странах. Во всех них инфляция упала. Мир, особенно если вы живете в богатой стране, стал более стабильным — но так ли это?
Суть в том, что мир стал стабильнее, только если рассматривать низкую инфляцию как единственный показатель экономической стабильности, но не стабильнее в том смысле, в каком стабильность понимают большинство из нас.
За последние три десятилетия господства свободного рынка и мощной антиинфляционной политики мир стал нестабильнее — в частности, увеличилась частота и масштабы экономических кризисов.
С конца Второй мировой войны и до середины 1970-х гг., когда мир, если судить по инфляции, был намного нестабильнее, чем сегодня, фактически ни одна страна не переживала банковский кризис. С середины 1970-х до конца 1980-х годов, когда во многих странах инфляция стала набирать темп, доля стран, испытывающих банковский кризис, возросла до 5–10% Однако в середине 1990-х годов, когда мы, казалось бы, окончательно приручили зверя по имени инфляция и достигли постоянно ускользающей от нас цели — экономической стабильности, доля стран-жертв банковского кризиса взлетела до 20%. Затем, в середине 2000-х годов, их число на несколько лет упало до нуля, но снова поднялось до 35%, вслед за глобальным финансовым кризисом 2008 года.
Еще один критерий, демонстрирующий, что мир за последние три десятилетия стал нестабильнее, — то, что для многих людей в этот период возросла гарантия занятости в «неофициальном секторе» (совокупности незарегистрированных фирм, которые не платят налоги и не соблюдают законов, включая те, что обеспечивают гарантию занятости) за этот период во многих развивающихся странах увеличилось, по причине преждевременной либерализации торговли, уничтожившей множество гарантированных «официальных» рабочих мест в соответствующих отраслях. В богатых странах ненадежность рабочих мест за 1980-е годы также повысилась, по причине возрастающей (по сравнению с 1950–1970-ми годами) безработицы, которая во многом явилась результатом сдерживающих макроэкономических мер, которые сдерживание инфляции ставили превыше всего. С 1990-х уровень безработицы упал, но негарантированность рабочих мест, по сравнению с периодом до начала 1980-х, выросла еще больше. Даже если рабочее место осталось надежным, согласно проведенному в 1999 году исследованию, почти две трети британских рабочих ответили, что за предыдущие пять лет испытывали увеличение темпа или интенсивности работы. Во многих (хотя и не во всех) богатых странах с 1980-х гг. отказались от модели «государства всеобщего благоденствия».
Стабильность цены — лишь один из показателей экономической стабильности. Для большинства людей это даже не самый главный показатель. Наиболее дестабилизирующие события в жизни большинства людей связаны с потерей работы или дома из-за финансового кризиса, а не с повышением цен, если только они не достигли гиперинфляционного размаха. Поэтому обуздание инфляции большинству людей не принесло полного ощущения стабильности, как обещали сторонники антиинфляционных мер.
В исследовании Рогофф и Райнхарт отмечают, что число стран, подверженных банковским кризисам, тесно связано со степенью международной мобильности капитала. Рост международной мобильности — главная цель экономистов-рыночников, которые полагают, что достижение большей свободы движения капитала через границы увеличит эффективность его использования. Поэтому они ратуют за распространение рынка капиталов на весь мир, хотя еще недавно они смягчали свою позицию в отношении развивающихся стран.
Аналогично, увеличившаяся негарантированность занятости — прямое следствие рыночной политики. Ненадежность занятости, проявившаяся в 1980-х гг. в богатых странах в виде высокой безработицы, была результатом жестких антиинфляционных макроэкономических мер. В период между 1990-ми годами и разразившимся в 2008 году кризисом, несмотря на упавший уровень безработицы, возросли шансы работника на принудительное увольнение, увеличилось количество краткосрочных контрактов, на многих позициях интенсивность работы стала выше — все это происходило в результате изменений в законодательстве о рынке труда, направленных на увеличение его гибкости и, тем самым, экономической эффективности.
Важность сдерживания инфляции подчеркивается потому, что многие финансовые активы номинально имеют фиксированные ставки дохода, поэтому инфляция сокращает их фактическую доходность. Большая мобильность капитала пропагандируется потому, что для держателей финансовых активов основной источник получения более высокого дохода, по сравнению с держателями других (физических и человеческих) активов, — это возможность быстрее перемещать свои активы. Большая гибкость рынка труда требуется потому, что, с точки зрения финансовых инвесторов, если облегчить прием на работу и увольнение сотрудников, то компании можно реструктурировать быстрее, демонстрируя более привлекательные цифры в краткосрочных балансовых отчетах, а значит, их легче продавать и покупать, получая более высокие доход.
За период низкой инфляции после 1980-х годов мировая экономика развивалась намного медленнее, чем в период высокой инфляции 1960–1970-х, не в последнюю очередь потому, что в большинстве стран упал объем инвестиций.
С нашим нездоровым интересом к инфляции необходимо покончить. Инфляция стала жупелом, который используется для оправдания реформ, играющих на руку, главным образом, держателям финансовых активов, в ущерб прочной стабильности, экономическому росту и счастью людей.
7. МЕТОДЫ СВОБОДНОГО РЫНКА РЕДКО ДЕЛАЮТ БЕДНЫЕ СТРАНЫ БОГАТЫМИ
В 1789 году Гамильтон, представленный на десятидолларовой банкноте США, в неслыханно молодом возрасте тридцати трех лет стал министром финансов, а два года спустя представил «Доклад о мануфактурах», в котором предложил для своей молодой страны стратегию экономического развития. В докладе он утверждал, что «промышленность в младенческом состоянии», такую, как в Америке, правительство должно защищать и лелеять, пока она не встанет на ноги. Доклад Гамильтона касался не только торгового протекционизма — в нем также говорилось о государственных инвестициях в инфраструктуру (такую как каналы), о развитии банковской системы, о стимулировании рынка государственных облигаций, — но в основе предложенной стратегии лежал протекционизм. С такими убеждениями, будь Гамильтон сегодня министром финансов одной из развивающихся стран, он бы подвергся за свою ересь жесткой критике со стороны министерства финансов США. Возможно даже, что ВМФ и Всемирный банк отказали бы его стране в кредите.
Интересно, что в своих идеях Гамильтон был не одинок. Все остальные «мертвые президенты» сегодня столкнулись бы с таким же неодобрением министерства финансов США, МВФ, Всемирного банка и прочих поборников рыночной веры.
Именно первый президент, Джордж Вашингтон, назначил Гамильтона министром финансов, прекрасно понимая, какова его позиция по экономической политике: в годы войны за независимость США Гамильтон был адъютантом Вашингтона, а впоследствии — его ближайшим политическим союзником.
На пятидесятидолларовой купюре представлен Улисс Грант, герой Гражданской войны, ставший президентом. Отвергая настойчивые требования Великобритании о введении в США свободной торговли, он как-то заметил: «Через двести лет, когда Америка получит от протекционизма все, что возможно, она тоже введет свободную торговлю».
Бенджамин Франклин, не разделяя теорию Гамильтона о «младенчестве промышленности», настаивал на введении системы покровительственных тарифов, но по другой причине. В то время земля в США почти ничего не стоила, что вынуждало американских производителей выплачивать зарплаты, почти вчетверо превосходящие средние в Европе, поскольку в противном случае рабочие убегали бы и открывали фермы (опасность была вполне реальной, если вспомнить, что прежде многие из них были фермерами). Поэтому, заявлял Франклин, американским производителям было бы не выжить, если бы их не защищали от конкуренции Европы с ее низкими зарплатами.
Великобритания, страна, где, по мнению многих, был придуман свободный рынок, построила свое процветание на принципах, сходных с теми, что предлагал Гамильтон. И это не случайно. Хотя Гамильтон первым сформулировал утверждение о «младенчестве промышленности», многие из его методов были позаимствованы у Роберта Уолпола, первого английского премьер-министра, стоявшего у руля страны с 1721 по 1742 гг.
Фактически все сегодняшние богатые страны использовали протекционизм и субсидии, чтобы развивать свои младенческие отрасли промышленности. Многие из этих стран (особенно Япония, Финляндия и Корея) также строго ограничивали иностранные инвестиции. С 1930-х по 1980-е гг. Финляндия, как правило, классифицировала все предприятия с долей иностранного капитала свыше 20% как «опасные». Некоторые из этих стран (особенно Франция, Австрия, Финляндия, Сингапур и Тайвань) для развития ключевых отраслей использовали государственные предприятия, тогда как в среднем по миру этот показатель составляет приблизительно 10%. Не слишком усердно охраняли нынешние богатые страны и интеллектуальную собственность иностранцев, а то и не охраняли вовсе — во многих из этих стран было вполне законным запатентовать сделанное другим изобретение, при условии, что тот — иностранец.
Утверждая, что патенты — искусственные монополии, противоречащие принципу свободной торговли, Нидерланды и Швейцария вплоть до начала XX века отказывались защищать патенты. Гонконг, хотя и не на столь принципиальных основаниях, был до недавнего времени еще более знаменит попранием прав интеллектуальной собственности, чем две другие вышеупомянутые страны.
По нескольким причинам эти вредные методы были на самом деле методами полезными — учитывая уровень экономического развития, на котором в то время находились эти страны. Первая из причин — аргумент Гамильтона о «младенчестве промышленности», развивающимся странам надо защищать и взращивать собственных производителей, до тех пор пока те не станут способны конкурировать на мировом рынке самостоятельно, без посторонней помощи. Во-вторых, на ранних стадиях развития рынки функционируют не слишком эффективно по разным причинам: плохой транспорт, плохой обмен информацией, малый объем рынка, который облегчает манипулирование им со стороны крупных участников и так далее. Это означает, что государство вынуждено активнее регулировать рынок, а некоторые рынки иногда даже специально создавать. В-третьих, на этих этапах правительству необходимо многое делать самому, через государственные предприятия, по той простой причине, что в частном секторе недостаточно фирм, готовых взять на себя крупномасштабные проекты, связанные с высоким риском.
Забывая собственную историю, богатые страны заставляют развивающиеся страны открывать границы и подставлять свою экономику под удар глобальной конкуренции. Для этого богатые страны лишь на определенных условиях соглашаются предоставлять экономическую помощь и займы контролируемых ими международных финансовых организаций (таких как МВФ и Всемирный банк), а также, пользуясь своим интеллектуальным превосходством, оказывают идеологическое давление. Проводя политику, которой, будучи развивающимися странами, сами не следовали, они говорят развивающимся странам: «Делай как я говорю, а не так, как я делал».
Когда богатым странам указывают на их историческое лицемерие, защитники свободного рынка возражают: «Да, возможно, протекционизм и другие формы вмешательства и были эффективны в Америке XIX века или в Японии середины XX века, но когда развивающиеся страны попытались применить эту политику в 1960-х и в 1970-х годах, то лишь наломали дров».
Суть в том, что развивающиеся страны вовсе не так плохо показали себя в 1964-1970-х, в «старые недобрые времена» протекционизма и государственного вмешательства. В 1960–1970-х годах Латинская Америка развивалась темпами в 3,1%, если считать по уровню национального дохода на душу населения. С 1980 по 2009 годы — примерно в треть этих темпов: 1,1%. И даже такой результат отчасти был обусловлен быстрым ростом тех стран региона, которые чуть ранее других открыто отвергли неолиберальную политику: Аргентина, Эквадор, Уругвай и Венесуэла. Африка южнее Сахары в «старые недобрые времена» развивалась с темпами в 1,6% по доходу на душу населения, но в 1980–2009 гг. темпы ее экономического развития составляли всего 0,2%.
8. У КАПИТАЛА ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Не многие корпорации являются на самом деле транснациональными. Подавляющее большинство из них продолжают выпускать большую часть своей продукции в родной стране. Высокотехнологичные виды деятельности, принятие стратегических решений и сложные научные разработки особенно прочно привязаны к стране основания компании. Заявления о мире без границ сильно преувеличены.
Почему в нашем глобализованном мире существует тенденция отдавать предпочтение родной стране?
Как и большинство из нас, топ-менеджеры чувствуют определенные личные обязательства перед обществом, из которого они вышли. Эти люди могут облекать свои обязательства в различные формулировки — патриотизм, дух сообщества, «ноблесс оближ» или желание «что-то дать взамен обществу, которое сделало их тем, чем они сегодня стали» — и могут переживать их с различной степенью интенсивности. И поскольку в большинстве компаний большинство людей, занимающих ответственные должности, — представители страны компании, в их решениях естественным образом присутствует некий перекос в сторону своей родины.
Помимо личных чувств директоров, у компании нередко есть реальные исторические обязательства перед страной, в которой она «выросла». Компании, особенно на ранних стадиях развития, часто поддерживаются государственными средствами, прямо или косвенно. Многие из них получают прямые субсидии на определенные виды деятельности, такие как капиталовложения в оборудование или в обучение персонала. Иногда они даже бывают спасены от банкротства на государственные средства, как это было с «Тойотой» в 1949 году, с «Фольксвагеном» в 1974 году и «Дженерал моторс» в 2009 году.
Как ни важны моральные и исторические аргументы, без преувеличения самой важной причиной отдать предпочтение родной стране является экономическая: то, что составляет важнейший потенциал компании, нелегко перевести за границу. Большинство станков можно легко вывезти за рубеж, но гораздо накладнее вывезти квалифицированных рабочих и менеджеров. Еще труднее насадить в другой стране организационные принципы или обзавестись сетью деловых контактов. Например, когда в 1980-х годах японские автомобильные компании начали открывать филиалы в Юго-восточной Азии, они просили субподрядчиков тоже основывать собственные филиалы, поскольку нуждались там в надежных субподрядчиках. Более того, чтобы функционировать должным образом, эти нематериальные свойства, воплощенные в людях, принципах работы и сети контактов, зачастую должны иметь вокруг себя необходимую экономико-правовую среду (юридическую систему, неформальные правила, деловую культуру). Какой бы мощной ни была компания, она не в состоянии переместить в другую страну свои экономико-правовые условия.
Лорд Питер Мандельсон заявил в интервью «Уолл-стрит джорнал» в сентябре 2009 года, что из-за снисходительного отношения Великобритании в вопросе владения иностранцами английских компаний, «британская промышленность может все проиграть». Его слова вызвали волну удивления, хотя он и оговорился, что произойдет это «разумеется, не в одну ночь, а займет продолжительное время».
Это рассуждение в своем роде верно. Прежде всего, нужно помнить, что большая часть зарубежных инвестиций — так называемые «коричневые» инвестиции, то есть, приобретение существующих фирм иностранной фирмой, в противоположность «зеленому» инвестированию, при котором зарубежная фирма строит новые производственные мощности. С 1990-х годов на долю «коричневых» инвестиций пришлось более половины всех прямых иностранных инвестиций в мире, и к 2001 году, в самый пик бума международных слияний и поглощений, доля таких инвестиций достигала целых 80%. Это означает, что большая часть прямых иностранных инвестиций направлена на приобретение контроля над уже существующими фирмами, а не на создание новых продуктов и рабочих мест. Нередко такое поглощение осуществляется с намерением использовать возможности, уже имеющиеся у поглощаемой компании, а не для того, чтобы создавать новые.
Даже в случае с «зелеными» инвестициями ориентация на родную страну остается важным фактором, который нельзя упускать из виду. Да, «зеленые» инвестиции создают новые производственные возможности, поэтому они, по определению, лучше, чем их альтернатива, а именно отсутствие инвестиций. Однако вопрос, который должны рассмотреть стратеги, прежде чем согласиться принять инвестиции, состоит в том, насколько эти инвестиции повлияют на будущую траекторию развития их национальной экономики.
При этом, в особенности для развивающейся страны, чьи национальные компании еще недостаточно развились, лучше, возможно, ограничить прямые иностранные капиталовложения, по крайней мере в некоторых отраслях, и попытаться развивать национальные фирмы, с тем чтобы они, как инвесторы, стали надежной альтернативой иностранным компаниям. Вероятно, в ближайшей перспективе страна потеряет какие-то инвестиции, но в конечном итоге подобная практика позволит ей заполучить в свои границы более высокотехнологичные операции. А еще лучше, если правительство развивающейся страны разрешит иностранные инвестиции на условиях, которые помогут этой стране быстрее повысить возможности национальных компаний — например, потребует создания совместных предприятий (на которых будет осуществляться передача управленческого опыта), заставит активнее передавать технологии или потребует в обязательном порядке проводить обучение персонала.
В последние годы фонды прямого инвестирования начали играть все более и более важную роль в корпоративном поглощении. На практике подобные фонды обычно не имеют намерения развивать приобретенную компанию на долгосрочную перспективу. Они приобретают фирмы с целью последующей продажи по истечении трех-пяти лет, реструктуризировав и сделав прибыльными. Такая реструктуризация, с учетом горизонта прогнозирования, обычно включает в себя снижение издержек (главным образом, увольнение работников и отказ от долгосрочных инвестиций), а не увеличение имеющегося потенциала. Подобная реструктуризация плохо влияет на долгосрочные перспективы развития компании, в целом ослабляя ее способность к росту производительности. В худших случаях фонды прямых инвестиций покупают компании с явным намерением поживиться за счет размывания активов — продать ценные активы компании, без оглядки на ее отдаленное будущее.
Хотя огульный отказ от иностранного капитала неразумен, было бы крайне наивно выстраивать экономическую политику на мифе о том, что капитал уже не имеет национальных корней. Ведь запоздалые сомнения лорда Мандельсона, оказывается, имеют под собой серьезную и реальную основу.
9. МЫ ЖИВЕМ НЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ
Было время, в конце XIX — начале XX века, когда в некоторых странах (в частности, в Великобритании и в Бельгии) около 40% всех работающих были заняты в промышленности. Сегодня эта доля составляет, самое большее, 25%, а в некоторых странах (особенно в США, Канаде и Великобритании) — едва ли 15%.
Фабричные рабочие более тесно общаются на работе и за ее пределами со своими коллегами, особенно на мероприятиях, организуемых профсоюзами. Работники магазинов и офисов, напротив, больше трудятся индивидуально и деятельностью профсоюзов почти не охвачены. Продавцы и некоторые офисные работники напрямую общаются с клиентами, тогда как фабричные рабочие своих клиентов никогда не видят. Все это означает, что люди в нынешних развитых странах не только работают по-разному, но и отличаются от своих родителей и дедов. В этом смысле можно сказать, что в социальном плане в развитых странах сегодня существует постиндустриальное общество.
Однако в экономическом плане постиндустриальными они не стали. Производство по-прежнему играет в их экономике ведущую роль. Чтобы убедиться в этом, мы сперва должны понять, почему в развитых странах произошла деиндустриализация.
Одна из подлинных причин деиндустриализации — это рост объема промышленного импорта из развивающихся стран, где издержки производства невелики, в особенности из Китая. Каким бы стремительным ни выглядел этот рост, большинство исследований показывают, что на подъем Китая как новой «мастерской мира» можно отнести лишь около 20% деиндустриализации, прошедшей на сегодня в развитых странах.
Основным двигателем процесса деиндустриализации стало падение относительных цен на промышленные товары, произошедшее из-за более быстрого роста производительности в промышленном секторе, чем в любом другом. Таким образом, если в плане занятости граждане развитых стран и живут в постиндустриальном обществе, то с точки зрения производства значение промышленности в экономике этих стран уменьшилось не до такой степени, чтобы провозглашать наступление постиндустриальной эпохи.
Стоит ли беспокоиться из-за деиндустриализации? Не обязательно. Если производственный сектор в стране имеет более низкий рост производительности, чем производственные сектора в других странах, то он утратит конкурентоспособность на международном рынке, что в краткосрочной перспективе приведет к проблемам платежного баланса, а в долгосрочной — к падению уровня жизни.
По мере того как в экономике начинает доминировать сфера услуг, где производительность растет медленнее, замедляется рост производительности и всей экономики в целом.
Деиндустриализация также оказывает негативное влияние на платежный баланс страны, поскольку услуги, по определению, труднее экспортировать, чем промышленные товары.
В основе низкой «продаваемости» услуг лежит тот факт, что, в отличие от промышленных товаров, которые могут быть доставлены в любую точку мира, большинство услуг требует, чтобы их поставщики и потребители находились в одном и том же месте. Еще никто не изобрел способа дистанционно делать стрижку или производить уборку помещений.
Разумеется, не все услуги одинаково «непродаваемые». Наукоемкие услуги — банковские услуги, консультирование, инженерное обеспечение и так далее — весьма и весьма реализуемы. Однако даже в Великобритании, которая больше других преуспела в экспорте наукоемких услуг, положительное сальдо платежного баланса, сформированное этими услугами, составляет существенно меньше 4% ВНП, — едва покрывая дефицит торговли промышленными товарами.
Некоторые исследователи утверждают, что развивающиеся страны могут, по большому счету, миновать индустриализацию и двигаться напрямую к экономике услуг. С увеличением количества услуг, переносящихся за границу, эта точка зрения стала очень популярна среди некоторых экспертов из Индии. К чему все эти грязные производства, говорят они, — давайте перейдем от сельского хозяйства напрямую к сфере услуг? Если Китай — «мастерская мира», продолжают они, то Индия должна постараться стать «офисом мира».
Безусловно, существуют отрасли сферы услуг, обладающие потенциалом стремительного роста производительности, в особенности, среди наукоемких услуг. Однако это услуги, которые направлены прежде всего на обслуживание фирм-производителей, поэтому эти отрасли очень трудно развивать, не развив сперва мощную производственную базу. Если с самого начала строить развитие экономики на основе сферы услуг, то в долгосрочной перспективе рост производительности будет идти намного медленнее, чем если опираться на производство.
За исключением отдельных государств, вроде Сейшельских островов, где очень небольшое население и исключительно благоприятные ресурсы для туризма (85 тысяч человек с доходом около 9 тысяч долларов на душу населения), ни одна страна до настоящего момента не достигла не то что высокого, но даже сносного уровня жизни, опираясь на сферу услуг, и в будущем таких стран не появится.
10. У США НЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В МИРЕ
Сейчас у нескольких европейских стран доход на душу населения выше. Данные Всемирного банка говорят нам, что доход на душу населения в США в 2007 году составлял 46 040 долларов. Есть семь стран с более высоким доходом на душу населения в пересчете на американский доллар — первое место занимает Норвегия (76 450 долларов), далее идут Люксембург, Швейцария, Дания, Исландия, Ирландия и замыкает список Швеция (46 060 долларов). Если исключить два мини-государства, Исландию (311 000 человек) и Люксембург (480 000 человек), США оказываются шестой самой богатой страной в мире.
Но этого не может быть, заявят некоторые из вас. Когда вы приезжаете в США, вы видите, что люди там живут лучше, чем норвежцы или швейцарцы. В Женеве за проезд в такси на расстояние пяти миль (или восьми километров) вы заплатите 35 швейцарских франков, или 35 долларов, тогда как в Бостоне та же поездка обошлась бы вам около 15 долларов. В Осло вы заплатите 550 крон, или 100 долларов, за обед, который в Сент-Луисе вряд ли стоил бы больше 50 долларов, или 275 крон.
Подобные несоответствия существуют главным образом потому, что рыночные обменные курсы, по большому счету, определяются спросом и предложением на продаваемые на международном рынке товары и услуги. А то, сколько можно купить на некоторую сумму в отдельно взятой стране, определяется ценами на все товары и услуги, не только на те, которые продаются за рубеж.
Самые важные среди не торгуемых продуктов — это услуги, предоставляемые человеком человеку, такие как перевозки в такси и обслуживание в ресторане. Поездки в такси и обед в ресторане дороги в таких странах, как Швейцария и Норвегия, потому что там дорогостоящие рабочие. Если мы говорим о товарах, продаваемых на международном рынке, как телевизоры или мобильные телефоны, их цены более или менее одинаковы во всех странах, как богатых, так и бедных.
Чтобы учесть различие цен на неторгуемые продукты и услуги в разных странах, экономисты предложили идею «международного доллара». Основанная на понятии паритета покупательной способности (ППС) — измерении ценности валюты в зависимости от того, какую часть общей потребительской корзины разных стран можно на нее купить, — эта условная денежная единица позволяет перевести доходы разных стран в общую меру жизненного уровня. В результате перевода доходов различных стран в международный доллар получается, что доходы богатых стран оказываются, как правило, ниже, чем доходы этих стран по рыночному обменному курсу, а доходы бедных стран — выше. Причина в том, что большую часть из потребляемого нами составляют услуги, которые в богатых странах намного дороже.
Согласно данным Всемирного банка, доход США по рыночному валютному курсу в 2007 году составил 46 040 долларов, а доход с учетом ППС был приблизительно таким же: 45 850 долларов.
И если мы подсчитаем доходы различных стран в международных долларах, то США почти возвращаются на ведущие позиции в мире. Все зависит от расчетов. Однако Люксембург — единственная страна, у которой по всем показателям доход по ППС на душу населения выше, чем у США. Таким образом, если не учитывать крошечное государство Люксембург с населением менее полумиллиона человек, средний американский гражданин на свой доход может купить самое большое в мире количество товаров и услуг.
Позволяет ли нам это сказать, что в США самый высокий уровень жизни в мире? Возможно. Но более высокий средний доход по сравнению с другими странами не обязательно означает, что все американские граждане живут лучше, чем граждане других стран. Лучше или хуже — зависит от распределения дохода. Учитывая, что в США существует самое неравномерное среди богатых стран распределение доходов, мы можем с уверенностью предположить, что в Америке доход на душу населения завышает реальный уровень жизни у большего числа ее граждан, чем в других странах. И это предположение косвенно подтверждается другими индикаторами уровня жизни. Например, несмотря на самый высокий доход по ППС, США стоят всего лишь где-то на тридцатом месте в мире по показателям статистики здравоохранения, таким как продолжительность жизни и детская смертность. Намного более высокий, чем в Европе или в Японии, уровень преступности (в расчете на душу населения в США в восемь раз больше людей содержатся в тюрьмах, чем в Европе, и в 12 раз больше, чем в Японии) показывает, что в США существенно многочисленнее низший слой общества.
Во-вторых, сам факт того, что доходы по ППС и по рыночному курсу примерно равны, служит доказательством того, что более высокий средний уровень жизни в США построен на бедности широких слоев населения. Что я имею в виду? В США, в отличие от других богатых стран, в ней дешевы работники сферы обслуживания. Прежде всего, имеется большой приток низкооплачиваемых иммигрантов из бедных стран, многие из них даже прибыли нелегально, отчего их труд становится еще дешевле. Кроме того, из-за гораздо более низкой надежности рабочих мест и более слабого бытового обслуживания американские рабочие, особенно не состоящие в профсоюзе работники отраслей сферы обслуживания, трудятся за более низкую зарплату и в худших условиях, чем их европейские коллеги. Потому-то такие услуги, как поездки в такси или обед в ресторане, в США намного дешевле, чем в других развитых странах. Это не может не радовать, когда вы клиент, но не когда вы водитель такси или официантка. Более высокая покупательная способность среднего американского заработка куплена ценой более низкого дохода и худших условий работы для многих американских граждан. Американцы работают на 10% больше, чем большинство европейцев, и примерно на 30% больше, чем голландцы и норвежцы. В 2005 году по доходу на отработанный час (с учетом ППС) США занимали всего лишь восьмое место — после Люксембурга, Норвегии, Франции, Ирландии, Бельгии Австрии и Нидерландов — и очень близко за ними шла Германия.
Популярность американской модели во многом основана на том «факте», что в США самый высокий в мире уровень жизни. В том, что уровень жизни в США самый высокий в мире, сомнений нет, но их мнимое превосходство выглядит гораздо слабее, как только мы введем более широкое понятие жизненного уровня, чем то, сколько можно купить на средний доход в стране.
11. АФРИКА НЕ ОБРЕЧЕНА НА ОТСТАЛОСТЬ
Список предполагаемых «конструктивных недостатков», сдерживающих развитие Африки, впечатляет.
Прежде всего, это определенные природой условия: климат, географическое положение и природные ресурсы. Располагаясь слишком близко к экватору, Африка страдает от свирепствующих тропических болезней, таких как малярия, которые сокращают производительность труда и поднимают расходы на здравоохранение. Многим странам, оказавшимся в плотном окружении других стран, тяжело интегрироваться в глобальную экономику. Они находятся в «плохом соседстве», в том смысле, что окружены другими бедными странами, имеющими маленькие рынки (что ограничивает для них возможности ведения торговли) и зачастую страдающими от вооруженных столкновений (которые часто выплескиваются на соседей). Африка также богата природными ресурсами, что многие считают ее «проклятием», утверждая, что изобилие ресурсов делает африканцев ленивыми.
Но отсутствие роста в регионе наблюдалось отнюдь не всегда. В 1960–1970-х годах доход на душу населения в Африке южнее Сахары увеличивался солидными темпами. При величине около 1,6% он был далек от темпов роста Восточной Азии (5–6%) или даже Латинской Америки (около 3%) в тот же период. Однако и к таким результатам нельзя относиться пренебрежительно. Он выигрывает по сравнению с показателями 1–1,5%, которых достигали нынешние развитые страны во времена, которые назывались — ни больше, ни меньше — их «промышленной революцией» (около 1820–1913 годов).
Резкое прекращение роста должно объясняться каким-то явлением, которое имело место около 1980-х годов. Первый подозреваемый — произошедшее примерно в этот период резкое изменение в политическом курсе.
С конца 1970-х годов субсахарские африканские страны были вынуждены принять политику свободного рынка и свободной торговли на условиях, навязанных им так называемыми «программами структурной стабилизации» Всемирного банка и МВФ.
Внезапно выставив едва оперившихся производителей на арену международной конкуренции, эти программы привели к краху того немногого, что смогли наработать небольшие промышленные сектора этих стран за 1960–1970-е годы. Таким образом, вынужденные снова полагаться на экспорт основных видов сырья, таких как какао, кофе и медь, африканские страны по-прежнему страдали от резких колебаний цен и от использования отсталых производственных технологий, которые связаны с добычей большинства этих видов сырья. После почти 30 лет применения «более совершенной» (то есть рыночной) политики, среднедушевой доход по сути остался на том же уровне, что в 1980 году.
Считается, что тропический климат парализует экономический рост, так как отрицательно сказывается на здоровье людей из-за тропических болезней, в первую очередь малярии. Это тяжелая проблема, но вполне решаемая. Многие сегодняшние богатые страны раньше страдали от малярии и прочих тропических заболеваний, по крайней мере в течение лета — не только Сингапур, который расположен посреди тропиков, но и Южная Италия, юг Соединенных Штатов, Южная Корея и Япония. Эти болезни уже не вызывают таких опасений, как раньше, потому, что уровень гигиены в этих странах повысился (что существенно сократило количество заболеваний), а медицинское обслуживание, благодаря экономическому развитию, улучшилось.
Многие говорят о проклятии ресурсов, но история развития таких стран, как США, Канада и Австралия, которые намного щедрее наделены природными богатствами, чем все африканские страны, за исключением, возможно, Южной Африки и Демократической Республики Конго, показывает, что богатые природные ресурсы могут быть и благословением.
Говорят и о «плохом» менталитете Африки, но менталитет большинства нынешних богатых стран в свое время тоже называли плохим. Вплоть до начала XX века австралийцы и американцы, побывав в Японии, говорили, что японцы ленивы. До середины XIX века британцы, побывавшие в Германии, говорили, что немцы слишком глупы, слишком эгоистичны и слишком эмоциональны, чтобы поднять экономику своих стран (тогда Германия еще не была объединена) — полная противоположность существующему сегодня стереотипу немцев и ровно то же, что сегодня говорят об африканцах. Японская и немецкая культуры в процессе экономического развития трансформировались, поскольку требования высокоорганизованного индустриального общества заставили людей быть более дисциплинированными, думающими и открытыми для сотрудничества. В этом смысле менталитет скорее является результатом, а не причиной экономического развития.
Главная причина недавно начавшегося упадка лежит в сфере политики — а именно, в политике свободы торговли, свободного рынка, которая была навязана континенту через «программы структурной стабилизации». Природа и история не обрекают страну на неудачи. Если проблемы вызваны политикой, будущее изменить даже еще легче. То, что мы еще этого не наблюдаем, — вот настоящая трагедия Африки.
12. ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На протяжении 1960–1970-х годов корейское правительство побуждало фирмы частного сектора уходить в отрасли, куда по собственной инициативе эти фирмы свои усилия прилагать бы не стали. Часто это осуществлялось при помощи пряников: через субсидии или протекционистские тарифы, защищавшие от импорта. Но даже когда подобных пряников было недостаточно, чтобы убедить бизнесменов, в ход шли кнуты — длинные кнуты, такие как угроза банков, находившихся на тот момент полностью в собственности государства, урезать кредиты, а то и «задушевная беседа» в тайной полиции.
Что интересно, многие проекты, которые государство продвигало подобным образом, ждал огромный успех. В 1960-х годах «LG груп», гиганту электроники, правительство запретило выходить на интересовавший компанию текстильный рынок и заставило заняться электрическими кабелями. По иронии судьбы, компания по производству кабелей стала основой ее производства электроники, которой LG сейчас славится на весь мир. В 1970-х годах корейское правительство оказало невероятное давление на Чон Чжу-ена, легендарного основателя «Хендэ груп», чтобы заставить его открыть судостроительную компанию. Даже сам Чон, как говорят, поначалу упирался, но сдался, когда генерал Пак Чжон Хи, тогдашний диктатор страны и архитектор корейского экономического чуда, пригрозил его бизнес-группе банкротством. Сегодня кораблестроительная компания «Хендэ» — один из крупнейших судостроителей в мире.
Корейская стратегия угадывания победителя, хотя и с использованием более агрессивных средств, была скопирована со стратегии японского правительства. Американское правительство со времен Второй мировой войны определяет свой «выбор победителей» через массированную поддержку научных исследований. Компьютер, полупроводники, летательные аппараты, Интернет и отрасли биотехнологии — яркие примеры направлений, которые были развиты благодаря субсидированию исследований американским правительством.
Государства, которые удачнее других угадывали удачную ставку, как правило, имели более эффективные каналы обмена информацией с бизнес-сектором. Один из самых очевидных способов, как государство может обеспечить себя надежной информацией о состоянии рынка, — открыть госпредприятие и самому вести бизнес. Этим методом широко пользуются такие страны, как Сингапур, Франция, Австрия, Норвегия и Финляндия. Во-вторых, государство может через законы потребовать, чтобы компании в отраслях, получающих государственную поддержку, регулярно отчитывались по некоторым ключевым аспектам своего бизнеса. Корейское правительство решительно проводило такую политику в 1970-х годах, когда оказывало значительную финансовую поддержку в ряде новых отраслей, таких как судостроение, сталелитейная промышленность и электроника.
Неудачи — в природе вещей при принятии рискованных предпринимательских решений в этом изменчивом мире. Ведь фирмы частного сектора постоянно пытаются «угадать победителя», делая ставки на неопробованные еще технологии или начиная проекты, которые другие считают безнадежными, и часто терпят неудачу. И так же, как правительства, известные своими удачными решениями, не каждый раз выбирают «правильную» компанию, так и самые успешные фирмы не всегда делают правильный выбор.
Вопрос не в том, способно ли государство поставить на будущего победителя — на что оно, безусловно, способно, — а в том, как улучшить его «средний результат». Вопреки распространенному убеждению, общий уровень успешности для государства возможно улучшить в разы, будь на то достаточная политическая воля. Создателем тайваньского чуда было правительство национальной партии (гоминьдана), синоним коррупции и некомпетентности, которое в 1949 году вынуждено было перебраться на Тайвань, уступив континентальный Китай коммунистам. Корейское правительство в 1950-х годах настолько славилось своим непрофессионализмом в области управления экономикой, что Агентство США по международному развитию (ЮСЭЙД) называло страну «бездонной ямой». В конце XIX — начале XX века французское правительство было известно своим нежеланием и неумением ставить на нужную компанию, но после Второй мировой войны стало в Европе чемпионом по отбору будущих победителей.
Суть в том, что ставки на победителя постоянно делаются и государством, и частным сектором, но самые успешные ставки осуществляются их совместными усилиями. Если нас продолжит вводить в заблуждение идеология свободного рынка, которая говорит нам, что успешным может быть только выбор, осуществляемый частным сектором, мы упустим целый ряд возможностей экономического развития, которые открывают государственное управление или совместные усилия государственного и частного сектора.
13. ЕСЛИ БОГАТЫЕ СТАНОВЯТСЯ БОГАЧЕ, ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ БОГАЧЕ
В 1919 году Ленин ввел новую экономическую политику (НЭП), разрешив рыночные отношения в сельском хозяйстве и позволив крестьянам оставлять себе доход от этих операций.
Большевистская партия раскололась. В левом крыле, утверждавшем, что НЭП — не более чем возврат к капитализму, находился Лев Троцкий. Его поддерживал блестящий экономист-самоучка Евгений Преображенский. Последний заявлял, что советской экономике, если она хочет развиваться, необходимо увеличивать инвестиции в промышленность. Однако эти инвестиции очень трудно увеличить, поскольку фактически все излишки, созданные в экономике контролируются крестьянами. Следовательно, частная собственность и рынок в деревне должны быть запрещены, с тем чтобы государство, сдерживая цены на сельскохозяйственную продукцию, могло выжать из деревни весь имеющийся для инвестирования излишек. Далее этот излишек предлагалось передать на нужды промышленного сектора и полностью направить на инвестиции, за чем обязаны будут проследить плановые органы. На первое время эти меры снизили бы уровень жизни, особенно для крестьянства, но впоследствии все стали бы жить лучше, поскольку инвестиции достигли бы максимума, а следовательно, максимально возрос бы и экономический потенциал.
Те, кто находился на правом фланге партии, такие как Иосиф Сталин и Николай Бухарин, давний друг и интеллектуальный соперник Преображенского, призывали быть реалистами. Они утверждали, что пусть это и не вполне «по-коммунистически» — разрешить в деревне частную собственность на землю и домашний скот, но нельзя отталкивать от себя крестьянство, учитывая его преобладание в стране. По Бухарину, не было иного выбора, кроме как «въехать в социализм на крестьянской лошадке». На протяжении большей части 1920-х годов перевес имели правые. Преображенского постепенно вытеснили на обочину политики, а в 1927 году он был отправлен в ссылку.
Но в 1928 году все переменилось. Став единоличным диктатором, Сталин украл идеи своих соперников и воплотил в жизнь стратегию, которую выдвинул Преображенский. Он конфисковал землю у кулаков и поставил всю деревню под государственный контроль путем коллективизации сельского хозяйства. Земли, конфискованные у кулаков, были превращены в совхозы, а мелких землевладельцев вынуждали вступать в колхозы, оставляя за ними лишь номинальное право долевой собственности.
В точности рекомендациям Преображенского Сталин не следовал. В сущности, он довольно мягко обошелся с деревней и не выжал крестьян до максимума. Вместо этого он установил рабочим в промышленности зарплаты ниже прожиточного минимума, что, в свою очередь, вынудило городских женщин влиться в ряды рабочего класса, чтобы их семьи имели возможность выжить.
Стратегия Сталина обошлась дорого. Миллионы людей, сопротивлявшихся коллективизации сельского хозяйства — или обвиненных в оказании сопротивления, — оказались в трудовых лагерях. Произошел спад производства сельскохозяйственной продукции, последовавший вслед за резким падением поголовья рабочего скота, частично забитого владельцами из-за грозящей конфискации, частично из-за недостатка зерна для прокорма, что было вызвано принудительными поставками зерна в города. Крах сельского хозяйства обернулся жестоким голодом 1932–1933 годов, из-за которого погибли миллионы людей.
Парадокс же в том, что не прибегни Сталин к стратегии Преображенского, Советский Союз оказался бы не в состоянии построить промышленную базу такими темпами, что сумел во Вторую мировую войну отразить вторжение нацистов на Восточном фронте. А без поражения нацистов на востоке Западная Европа не смогла бы одержать победу над нацизмом. Так, по иронии судьбы, западноевропейцы обязаны своей сегодняшней свободой ультралевому советскому экономисту по фамилии Преображенский.
Почему я так долго разглагольствую о каком-то забытом русском экономисте-марксисте, жившем сто лет назад? Потому, что между стратегией Сталина (или, вернее, Преображенского) и сегодняшней политикой в поддержку богачей, которую защищают экономисты-рыночники, прослеживается удивительная параллель.
Либералы XIX века полагали, что «воздержание» — ключ к накоплению богатства и, тем самым, к экономическому развитию. Если люди хотят накопить богатство, то, пожав плоды своего труда, они должны воздерживаться от немедленного наслаждения ими, вместо этого вкладывая полученное в капитал. Согласно этому мировоззрению, бедные бедны потому, что им недостает силы воли для подобного воздержания. Следовательно, если дать бедным право голоса, они захотят максимально увеличить свое текущее потребление, а не инвестиции, обложив налогами богатых и растрачивая полученные средства. На время это может сделать бедных состоятельнее, но в будущем они станут беднее, поскольку будут сокращены инвестиции, а значит, снизится и экономический рост.
В этом пункте взгляды экономистов-рыночников смыкались со взглядами ультралевых коммунистов, подобных Преображенскому. Несмотря на очевидные внешние различия, и он, и они считали: чтобы в будущем привести к максимальному экономическому росту, тот излишек, который возможно направить в инвестиции, должен быть сконцентрирован в руках инвестора; причем для первого этим инвестором был класс капиталистов, а для второго — планирующий орган. В конечном счете, это и имеют в виду люди, когда говорят, что «сперва надо создать богатство, и только потом его можно перераспределять».
Между концом XIX и началом XX веков оправдались худшие страхи либералов, и большинство стран Европы и так называемые «отростки Запада» (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) предоставили право голоса беднякам (естественно, только мужского пола). Однако столь пугавшего их чрезмерно высокого налогообложения богатых и последующего разрушения капитализма не случилось. В течение нескольких десятилетий, которые последовали за введением права голоса для всего мужского населения, налогообложение богатых и расходы на социальные нужды увеличились ненамного. Так что бедняки, как оказалось, вовсе не настолько нетерпеливы.
Более того, когда всерьез начали вводить страшившие всех высокие налоги на богатых, капитализм это не уничтожило. Он даже укрепился. По окончании Второй мировой войны в большинстве богатых капиталистических стран наблюдался стремительный рост прогрессивного налогообложения и расходов на социальное обеспечение. Несмотря на это обстоятельство, между 1950 и 1973 годами были достигнуты самые высокие за всю историю этих стран темпы роста — а сам этот период стал известен как «золотой век капитализма». До этого времени доход на душу населения в богатых капиталистических странах вырастал на 1–1,5% в год. В период же «золотого века» он вырос до 2–3% в США и Великобритании, 4–5% — в Западной Европе и 8% — в Японии. С тех пор этим странам так и не удалось развиваться быстрее.
Когда с середины 1970-х годов рост в экономике богатых капиталистических стран замедлился, экономисты-рыночники сумели убедить всех остальных, что причиной спада стало сокращение той доли дохода, что шла инвестирующему классу.
С 1980-х годов почти все это время во главе многих стран стояли правительства, поддерживающие вертикальное перераспределение доходов снизу вверх. Даже некоторые так называемые «партии левого крыла», такие как лейбористская в Великобритании при Тони Блэре и демократическая в США при Билле Клинтоне, в открытую пропагандировали эту стратегию — кульминация пришлась на 1996 год, когда Билл Клинтон представил свою реформу системы социального обеспечения, объявив, что желает «положить конец социальному обеспечению в том виде, каким мы его знаем».
Повышение расходов на социальные пособия и выплаты сдерживалось, несмотря на то, что структурные изменения, связанные со старением населения, вызвали рост потребности в пенсиях, в пособиях по инвалидности, в дополнительном финансировании услуг здравоохранения и других статей расходов для престарелых граждан.
В большинстве стран также было предпринято немало шагов, которые в итоге свелись к перераспределению национального дохода от бедных к богатым. Произошло сокращение налогов для богатых — были снижены верхние значения ставки подоходного налога. Финансовая дерегуляция открыла огромные возможности для спекулятивных доходов, а также для астрономических выплат топ-менеджерам и финансистам. Дерегуляция в других сферах экономики также позволила компаниям получать большие прибыли, не в последнюю очередь благодаря расширению возможностей для использования своего монопольного положения, для загрязнения окружающей среды и упрощения увольнения сотрудников. Еще большая либерализация торговли и возросший объем иностранных инвестиций — или по крайней мере, угроза их роста — также стали оказывать давление на зарплаты в сторону их снижения.
В результате в самых богатых странах возросло неравенство доходов. С 1979 по 2006 годы, из тех, кто получает в США зарплату, верхний 1% более чем вдвое увеличил свою долю в национальном доходе — с 10% до 22,9%. Верхняя 0,1% показала еще лучший результат, увеличив свою долю более чем в три раза, с 3,5% в 1979 году до 11,6% в 2006-м{31}. Произошедшее объясняется, главным образом, астрономическим повышением по всей стране зарплат управленцев, неоправданность которого становится все более очевидной после финансового кризиса 2008 года.
Перераспределение доходов снизу вверх было бы оправдано, если бы привело к ускорению экономического роста. Но суть в том, что на самом деле с началом в 1980-х годах неолиберальной реформы, ориентированной на поддержку богатых, экономический рост замедлился. По данным Всемирного банка, в 1960–1970-х годах мировая экономика в расчете на душу населения развивалась с темпами свыше 3%, а с 1980-х годов ее рост составлял 1,4% в год (1980–2009).
Проблема в том, что концентрация доходов в руках инвестора, будь то класс капиталистов или сталинский плановый орган, не приводит к увеличению темпов роста, если инвестор не увеличивает инвестиции. Когда Сталин передал все доходы в распоряжение управления по планированию под названием Госплан, по крайней мере была гарантия, что сосредоточенный доход будет обращен в инвестиции. Капиталистическая экономика такого механизма не имеет. Убедитесь сами: несмотря на увеличивающееся с 1980-х годов неравенство, инвестиции как доля совокупного продукта упали в экономике всех стран «большой семерки» (США, Японии, Германии, Великобритании, Италии, Франции и Канады) и в большинстве развивающихся стран.
Спору нет, «просачивание» — неглупая идея. Проблема, однако, в том, что если процесс предоставить рынку, большого просачивания, как правило, не происходит. Например, если снова обратиться к данным ИЭП, верхние 10% населения США с 1989 по 2006 годы распоряжались 91% прироста дохода, а верхний 1% забирал 59%. Напротив, в странах, где развиты структуры «государства всеобщего благосостояния» через налоги и отчисления распределять блага экономического прироста, который приходит (если приходит) вслед за перераспределением дохода снизу вверх, намного легче. И действительно, до вычета налогов и отчислений распределение доходов в Бельгии и Германии более неравное, чем в Соединенных Штатах, тогда как в Швеции и Нидерландах — примерно такое же, как в США[8]. Иными словами, чтобы вода с вершины начала просачиваться вниз в заметных объемах, требуется электронасос в виде «государства всеобщего благосостояния».
И наконец, что не менее важно: существует множество причин полагать, что перераспределение доходов сверху вниз может способствовать росту, если осуществлять его правильным образом и в правильное время. Например, при таком экономическом спаде, как сегодняшний, лучший способ поднять экономику — это перераспределить богатство сверху вниз, так как бедные обычно тратят большую часть своих доходов. Благотворный для экономики эффект лишнего миллиарда долларов, выданного семьям с низким доходом через увеличение социальных выплат, будет выше, чем от той же суммы, выданной богатым посредством сокращения налогов. Более того, дополнительные доходы могут стимулировать вложения работников в свое образование и здоровье, что увеличит их производительность труда и тем самым экономический рост. Кроме того, большее равенство доходов будет способствовать социальному миру, снижая число забастовок и правонарушений, что, в свою очередь, может стимулировать инвестирование, поскольку уменьшает опасность сбоев производственного процесса, а значит, и процесса создания богатства. Многие исследователи полагают, что подобный механизм работал в «золотой век капитализма», когда низкое неравенство доходов соседствовало с быстрым экономическим ростом.
Если мы просто сделаем богатых еще богаче, остальных это не сделает богаче. Если мы хотим, чтобы перераспределение более высоких доходов в пользу богатых приносило пользу остальной части общества, необходимо при помощи мер государственной политики (например, сокращая налоги для состоятельных людей и богатых корпораций в зависимости от объема их инвестиций) вынуждать богатых осуществлять более крупные инвестиции ради увеличения экономического роста — с тем чтобы впоследствии и богатые, наравне со всеми остальными, пользовались плодами этого роста через социальные механизмы «государства всеобщего благоденствия».
14. АМЕРИКАНСКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ СИЛЬНО ПЕРЕОЦЕНЕНЫ
Соотношение компенсационного пакета генерального директора (оклад, бонусы и фондовые опционы) к компенсационным выплатам среднего работника (зарплата и пособия) в США в 1960–1970-х годах составляло примерно 30–40 к 1. Это соотношение начало стремительно расти с начала 1980-х годов, достигнув к началу 1990-х показателя примерно 100 к 1 и поднявшись к 2000-м годам до 300–400 к 1. С середины 1970-х годов зарплата рабочего в США практически стояла на месте.
Если возросшая важность управленческих решений на верхних уровнях компании — главная причина резкого увеличения вознаграждения директоров, тогда почему директора в Японии и в Европе, управляя не меньшими по размеру компаниями, довольствуются лишь частью от той оплаты, которую получают директора американские? Согласно ИЭП, в 2005 году главам швейцарских и германских компаний выплачивали, соответственно, 64% и 55% от вознаграждения их американских коллег. Шведы и голландцы получали всего лишь около 44% и 40% по сравнению с американскими директорами. Руководителям японских корпораций выплачивали ничтожные 25% от американских вознаграждений.
Если американские управленцы лучше своих зарубежных коллег от двух (по сравнению со швейцарскими директорами, если исключить из их вознаграждения опционы) до двадцати раз (по сравнению с японскими директорами, если включить в их вознаграждение опционы), то как получается, что компании, во главе которых они стоят, во многих отраслях промышленности проигрывают японским и европейским конкурентам?
Можно предположить, что японские и европейские директора трудятся за существенно более низкую зарплату, чем американские, потому что у них в странах уровень заработной платы ниже в целом. Но зарплаты в Японии и в европейских странах, по большому счету, находятся на том же уровне, что и американские.
В США (и Великобритании, занимающей второе, после США, место по соотношению оплаты директоров и обычных работников) компенсационный пакет для топ-менеджеров формируется с явным перекосом. Не говоря уже о том, что платят этим менеджерам непомерно много, за плохое руководство им не грозит никакое наказание. Худшее, что с ними случится, — их выгонят с нынешней работы, но почти всегда увольнение сопровождается солидным выходным пособием. Иногда выгнанный директор получает даже больше, чем обусловлено контрактом.
Класс управленцев в этих странах приобрел слишком большое влияние, не в последнюю очередь из-за огромных зарплат, к которым они привыкли за последние несколько десятилетий. Профессиональные менеджеры захватили власть в залах заседаний советов директоров, сочетая диктаторские методы и ловкое использование в личных интересах информации, которую они передают независимым директорам, и в результате редко какой совет директоров задается вопросами о размерах и структуре выплат менеджменту, которые устанавливает генеральный директор. Эти вопросы почти не возникают и у акционеров, которых радуют постоянно растущие выплаты .
Рабочим приходится терпеть постоянные урезания зарплат, ухудшение условий трудовых соглашений, сокращение штатов и разукрупнения, чтобы руководство могло получать прибыль, достаточную для выплат акционерам, дабы последние не возмущались высокими зарплатами руководящей верхушке компаний.
Когда руководство максимально увеличивает дивиденды, чтобы акционеры не поднимали шума, инвестиции сводятся к минимуму, ослабляя производственную мощь компании в будущем. В сочетании с завышенными выплатами менеджменту такая практика ставит американские и британские компании в невыгодное положение в международной конкурентной борьбе, выливающееся в потерю сотрудниками этих компаний рабочих мест. Наконец, когда проблемы становятся масштабными, как это произошло во время финансового кризиса 2008 года, налогоплательщики вынуждены оказывать финансовую помощь обанкротившимся компаниям, тогда как руководители, которые привели компанию к банкротству, уходят практически безнаказанными.
Когда класс управленцев в США и, в меньшей степени, в Великобритании, обладает такой экономической, политической и идеологической властью, что способен управлять рынком и перекладывать негативные последствия своих действий на других, заблуждением будет считать, что заработная плата руководителей высшего звена — тот параметр, оптимальную величину и структуру которого будет определять и должен определять рынок.
15. В БЕДНЫХ СТРАНАХ ЛЮДИ БОЛЕЕ ПРЕДПРИИМЧИВЫ ЧЕМ В БОГАТЫХ СТРАНАХ
На улицах бедных стран можно встретить мужчин, женщин и детей всех возрастов, продающих все, что только можно придумать, и то, что вам бы никогда не пришло в голову продавать. Во многих бедных странах можно купить место в очереди в визовый отдел американского посольства (которое продадут вам те, кто превратил стояние в очередях в профессиональное занятие), услугу «последить за вашей машиной» (читай, «воздержаться от нанесения ущерба вашей машине») на уличной парковке, право поставить продуктовый ларек на углу (вероятно, оно будет продано вам коррумпированным местным полицейским боссом) или даже участок земли для попрошайничества (продаваемый местными бандитами). Все это — продукты человеческой находчивости и предприимчивости.
В богатых странах, напротив, большинство граждан даже не пытаются становиться предпринимателями. В большинстве своем они работают в компании, где кроме них, бывает, трудится по нескольку десятков тысяч человек, которые выполняют высокоспециализированную и узкопрофессиональную работу. И хотя некоторые мечтают или даже праздно толкуют о том, чтобы открыть собственное дело и «стать самому себе хозяином», мало кто из них реализует это на практике, поскольку предпринимательство — дело трудное и рискованное.
Вывод же в том, что в развивающихся странах люди намного предприимчивее, чем в развитых странах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в большинстве развивающихся стран 30–50% не занятых в сельском хозяйстве трудовых ресурсов работают на собственный бизнес (в сельском хозяйстве их доля, как правило, еще выше). В некоторых беднейших странах доля людей, работающих как индивидуальные предприниматели, может оказаться намного выше: 66,9% в Гане, 75,4% в Бангладеш и поразительные 88,7% в Бенине. Для сравнения: в развитых странах работают в собственном бизнесе лишь 12,8% несельскохозяйственных работников. В некоторых странах их доля не достигает даже одного из десяти: 6,7% — в Норвегии, 7,5% — в США и 8,6% — во Франции. Итак, даже без учета фермеров (которые сделали бы эту долю еще выше), вероятность того, что средний житель развивающейся страны окажется предпринимателем, более чем в два раза выше, чем вероятность, что им окажется человек из развитой страны (30% против 12,8%).
И даже тем людям, которые имеют свой бизнес в богатых странах, нет необходимости быть столь же изобретательными, как их коллегам в бедных странах. У предпринимателей в развивающихся странах постоянно происходит что-то непредвиденное. Производственный график ломается из-за отключения электричества. Таможня не пропускает запчасти, необходимые для станка, ремонт которого и так уже откладывался из-за трудностей с получением разрешения на покупку долларов. Сырье доставляется не вовремя, так как сломался — в который раз! — грузовик развозки, угодив в яму на дороге. А местные мелкие чиновники все время толкуют правила по-своему и даже изобретают новые, чтобы выудить из вас взятку. Чтобы справиться со всеми этими препятствиями, необходим проворный ум и умение импровизировать. Если бы среднему американскому бизнесмену пришлось бы руководить маленькой компанией в Мапуту или Пномпене, он бы и недели не протянул, столкнувшись с подобными проблемами. Так почему же тогда эти более предприимчивые страны — беднее?
Проблема в том, что богатые страны делает богатыми имеющаяся у них возможность направлять индивидуальную предпринимательскую энергию в коллективное предпринимательство. По мере развития капитализма предпринимательство все в большей степени становится коллективным делом.
Начнем с того, что даже выдающиеся одиночки, вроде Эдисона и Гейтса, стали теми, кем они стали, только потому, что их поддерживала целая армия коллективных институтов: научная инфраструктура, которая позволила получить знания и применить их; закон о компаниях и прочие торговые законы, давшие одиночкам возможность впоследствии создать компании с разветвленной и сложной организацией; образовательная система, поставлявшая высококвалифицированных ученых, инженеров, администраторов и рабочих, которые стали работать в этих компаниях; финансовая система, благодаря которой они смогли привлечь огромный капитал, когда потребовалось расширяться; патентные законы и законы об авторских правах, которые защищали их изобретения; доступный рынок для их продукции и так далее.
Кроме того, в богатых странах предприятия сотрудничают друг с другом намного больше, чем в бедных странах, даже если они работают в сходных областях. Например, сектор молочной промышленности в таких странах, как Дания, Нидерланды и Германия, вышел на свой сегодняшний уровень лишь потому, что фермеры, при поддержке государства, организовались в кооперативы. Напротив, в балканских странах сектор молочной промышленности развиться не смог, несмотря на немалые объемы направленных туда микрокредитов, поскольку все тамошние фермеры, выпускающие молочную продукцию, попытались производить ее в одиночку.
Если мы не откажемся от мифа о героических предпринимателях-одиночках и не начнем помогать бедным странам создавать институты и организации для коллективного предпринимательства, то они никогда не смогут вырваться из нищеты.
16. МЫ НЕ НАСТОЛЬКО УМНЫ ЧТОБЫ ОСТАВЛЯТЬ РЕШЕНИЕ ЗА РЫНКОМ
В 1997 году Роберт Мертон и Майрон Скоулз были удостоены Нобелевской премии по экономике «за новый метод определения стоимости вторичных ценных бумаг».
В 1998 году огромный хеджевый фонд под названием «Лонг терм кэпитэл менеджмент» (LTCM) после финансового кризиса в России оказался на грани банкротства. Фонд был столь велик, что его банкротство грозило увлечь за собой в небытие остальные. Краха финансовая система США избежала лишь потому, что Федеральный резервный банк, центральный банк США, выкрутил руки десятку банков-кредиторов, заставив влить в фонд деньги и стать его невольными акционерами, приобретя контроль более чем над 90% акций. В 2000 году LTCM окончательно свернул операции.
В совет директоров компании LTCM входили — кто бы вы думали? — Мертон и Скоулз. Они не только позволили компании использовать свои имена в обмен на кругленькую сумму. Они были реальными партнерами, и компания активно применяла их модель ценообразования на фондовом рынке.
Не обескураженный неудачей LTCM, в 1999 году Скоулз основал новый хеджевый фонд «Платинум гроув ассет менеджмент» (PGAM). В ноябре 2008 года фонд фактически лопнул, временно заморозив для инвесторов отзыв средств. Единственным для них утешением оставалось то, что не их одних подвел нобелевский лауреат. «Трин-сам груп», где директором по научным вопросам работал бывший партнер Скоулза Мертон, в январе 2009 года тоже обанкротилась.
В Корее есть пословица: даже обезьяна падает с дерева. Да, все мы совершаем ошибки, и одну неудачу — даже если она гигантских масштабов, как в случае с LTCM, — можно счесть ошибкой. Но повторение одной и той же ошибки дважды? Тогда становится понятно, что первая ошибка на самом деле ошибкой не была. Мертон и Скоулз не ведали, что творили.
Можно ли рассуждать о регулировании рынка, если нам не хватает сообразительности даже на то, чтобы оставить его в покое? Ответ — да. И даже более того. Очень часто регулирование требуется именно потому, что нам не хватает сообразительности. Сейчас я продемонстрирую, почему.
Герберт Саймон, обладатель Нобелевской премии по экономике 1978 года, возможно, был последним на земле человеком эпохи Возрождения. Если кто и понимал, как люди мыслят и как они организуются, то это был Саймон.
По Саймону, мы пытаемся быть рациональными, но наши возможности для этого недостаточны. Мир слишком сложен, чтобы наш ограниченный интеллект мог в полной мере его понять. Это означает, что очень часто главная проблема, с который мы сталкиваемся, стремясь принять правильное решение, заключена не в недостатке информации, но в недостаточных возможностях для обработки этой информации — мысль, которую удачно иллюстрирует тот факт, что наступление всеми восхваляемой компьютерной эры не улучшило качества принимаемых нами решений, если судить по хаосу, в котором мы сегодня находимся.
Лучшее объяснение сложного устройства мира, — дано, как ни удивительно, Дональдом Рамсфельдом, министром обороны в первое правление Джорджа Буша-младшего. В 2002 году на встрече с журналистами, посвященной ситуации в Афганистане, Рамсфельд высказал следующее: «Существуют известные неизвестные. Это — вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем. Но еще существуют неизвестные неизвестные. Это — вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем».
Что же мы делаем, если мир так сложен, а наша способность понять его — так ограничена? Ответ Саймона заключается в том, что мы намеренно ограничиваем нашу свободу выбора, чтобы сократить диапазон и сложность проблем, с которыми нам приходится иметь дело.
Любимый пример Саймона, иллюстрирующий, насколько нам нужны правила, чтобы преодолеть нашу избирательную рациональность, — шахматы. У нас всего 32 фигуры и 64 клетки. Шахматы могут показаться достаточно простой штукой, но на самом деле они требуют огромного объема вычислений. Будь вы одним из «гиперрациональных» существ (как их называет Саймон) то, конечно, прежде чем сделать ход, вы бы вычислили все возможные ходы и их вероятные последствия. Но поскольку в обычной шахматной партии имеется около 10120 возможных ходов (да-да, 120 нулей), этот «рациональный» подход потребует таких умственных способностей, которыми не обладает ни одно человеческое существо. Изучая игру шахматных мастеров, Саймон понял, что они используют эмпирические правила (эвристику) для ограничения числа возможных ходов, с тем чтобы сократить количество сценариев, которые надо проанализировать, пусть даже исключенные из рассмотрения ходы могли принести более удачные результаты. Если настолько сложны шахматы, то можете представить, насколько сложно устройство экономики, которая включает в себя миллионы людей и миллионы продуктов.
Экономисты-рыночники возражают против государственного регулирования на тех (вполне резонных) основаниях, что государству отнюдь не «виднее», по сравнению с теми, чьи действия оно регулирует. Однако теория Саймона показывает, что многие установления работают вовсе не потому, что государство непременно понимает больше, чем те, чьи действия оно регламентирует (хотя бывает и так), но потому, что установления ограничивают сложность действий, позволяя принимать более удачные решения.
В преддверии кризиса 2008 года наша способность принимать хорошие решения оказалась «перегруженной», потому что ситуации позволили чересчур усложниться, из-за использования различных финансовых нововведений.
Если в будущем мы желаем избежать подобных финансовых кризисов, нужно строго ограничить свободу действий на финансовом рынке. Необходимо отказаться от финансовых инструментов, механизм действия которых и их влияние на остальную часть финансового сектора, а также на всю экономику в целом мы не до конца понимаем. Это будет означать запрет многих сложных производных финансовых инструментов, действие и результаты которых оказались вне пределов понимания даже тех, кто считался экспертом в этом вопросе. Лекарство проходит тщательные испытания, пока мы не убедимся, что оно оказывает достаточно полезное воздействие, которое однозначно перекрывает побочные эффекты, и поэтому лекарство можно продавать. Нет ничего сверхъестественного в желании удостовериться в безопасности финансовых продуктов, прежде чем они будут допущены к продаже.
Ограничения необходимы не потому, что государство лучше понимает, что нам нужно. Они необходимы как робкое признание наших ограниченных интеллектуальных возможностей.
17. ОДНИМ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНА НЕ СТАНЕТ БОГАЧЕ
Сколь бы очевидной ни казалась важность образования в повышении эффективности экономики, найдется немало свидетельств, ставящих под сомнение эту расхожую истину. Очевидно, помимо образования, существует множество других факторов, определяющих показатели экономического роста страны.
Экономист из Гарварда Лант Притчетт, долгое время проработавший во Всемирном банке, проанализировал данные нескольких десятков богатых и развивающихся стран за период 1960–1987 годов и составил обширный обзор аналогичных исследований, чтобы установить, оказывает ли образование положительное воздействие на экономический рост. Он пришел к выводу, что имеется мало оснований полагать, будто рост уровня образования приводит к увеличению темпов экономического роста.
Даже такие предметы, как математика и естествознание, которые, казалось бы, важны для увеличения производительности труда, не нужны для большинства профессий — чтобы хорошо справляться со своей работой, инвестиционным банкирам не требуется биология, а модельерам — математика. Даже в профессиях, которые имеют отношение к этим предметам, большая часть из того, что преподается в школе или даже в университете, зачастую не находит применения в практической деятельности. Важная роль профессионального обучения и производственной практики во многих профессиях свидетельствует о том, что школьные предметы лишь в некоторой степени играют роль в повышении эффективности труда.
Хотя экономическое развитие и не требует, чтобы среднестатистический рабочий был более образован, для сложных задач нужны образованные люди. Ведь именно способность создавать более продуктивное знание делает страну богаче других. При таком подходе процветание нации определяется качественным уровнем университетов, а не начальных школ.
Но и в нашу вроде бы ориентированную на знание эпоху взаимосвязь между высшим образованием и уровнем благосостояния не столь однозначна. Возьмем уникальный пример — Швейцария. Страна входит в число самых богатых и самых индустриализованных в мире, но, как ни странно, в богатом мире она характеризуется самой низкой — причем с большим отставанием — численностью студентов.
Главное объяснение «швейцарского парадокса» нужно опять-таки искать в низкой ориентации содержания образования на производственные нужды. В случае высшего образования «непроизводительный» компонент — это не предметы, которые развивают у человека самореализацию, гражданскую позицию и национальное самосознание, как в начальной и средней школе. Это, как называют ее экономисты, «сортирующая» функция.
Спору нет, что высшее образование наделяет тех, кто его получает, определенными прикладными знаниями, но другая важная его задача — определить место каждого человека на шкале его пригодности к трудоустройству. Тот факт, что вы окончили университет, говорит вашим будущим работодателям, что вы, скорее всего, умнее, дисциплинированнее и организованнее, чем те, кто в университете не учился. Нанимая вас как выпускника университета, ваш работодатель выбирает вас за эти общие качества, а не за специальные знания, которые зачастую не имеют отношения к работе, которую вам предстоит выполнять.
Видя, что до середины 1990-х годов Швейцария сохраняла один из самых высоких в мире уровней эффективности национальной экономики, имея совокупную долю студентов в 10–15%, мы можем сказать, что существенно более высокая доля студентов и не требуется.
Ценность образования — в его способности помочь нам развить свой потенциал и жить более плодотворной и независимой жизнью. Следует отказаться от нашего чрезмерного увлечения образованием, и намного большее внимание, особенно в развивающихся странах, необходимо уделять открытию и модернизации эффективных предприятий и созданию институтов для их поддержки.
18. ЧТО ХОРОШО ДЛЯ «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС», НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
Говорят, что Вторую мировую войну выиграл Детройт. Да, Советский Союз понес огромные потери, больше всех остальных, — по оценкам, число жертв в Великую Отечественную войну (как она тогда называлась) составило более 25 миллионов человек, это почти половина всех погибших за войну в мире. Но СССР — и, разумеется, Великобритания, — не сдержали бы нападения нацистов, если бы у них не было оружия, присланного из Соединенных Штатов Америки — этого «арсенала демократии», как назвал их Франклин Рузвельт. И большая часть этого оружия была изготовлена на переориентированных на военное производство заводах детройтских автомобилестроителей — «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер». Без промышленной мощи США, представленной Детройтом, нацисты захватили бы Европу и, как минимум, западную часть Советского Союза.
Быстрые успехи нацистской Германии в начале войны стали возможны благодаря способности ее войск быстро передвигаться — в этом суть знаменитого блицкрига, или «молниеносной войны». А своей высокой мобильностью германская армия обязана высокой моторизации, техническое обеспечение которой осуществлял не кто иной, как «Дженерал моторс» (через свою дочернюю компанию «Опель», приобретенную в 1929 году). Более того, появляются свидетельства, что, преступая закон, на протяжении всей войны «Дженерал моторс» тайно поддерживала связи с «Опель», который выпускал не только автомобили для военных, но и самолеты, мины и торпеды. Похоже, что «Дженерал моторс» вооружала обе воюющие стороны, получая прибыль и с тех, и с других.
К концу Второй мировой войны «Дженерал моторс» не только была крупнейшим производителем автомобилей в США; по доходам она стала самой большой в стране. Компания пользовалась таким влиянием, что когда в 1953 году Чарли Уилсона, тогдашнего президента «Дженерал моторс», на слушаниях в конгрессе, посвященных его назначению министром обороны США, спросили, не усматривает ли он потенциального конфликта интересов между своей корпоративной принадлежностью и своими обязанностями на государственном посту, тот, как известно, ответил: что хорошо для Соединенных Штатов, то хорошо и для «Дженерал моторс», и наоборот. С логикой этого утверждения трудно поспорить. В капиталистической экономике компании частного сектора играют ключевую роль в создании богатства, в увеличении количества рабочих мест и в налоговых поступлениях.
Столь очевидное утверждение не было общепринятым на протяжении большей части XX века. Почему-то от Великой депрессии до 1970-х годов на частный бизнес с подозрением косились даже в большинстве капиталистических стран. Частные компании рассматривались как антиобщественные силы, чье стремление к наживе необходимо сдерживать ради других, предположительно более высоких целей, таких как справедливость, общественное согласие, защита слабых и даже национальная гордость. В результате, исходя из убеждения, что государство призвано регламентировать, что и какие фирмы делают в интересах общества в целом, были введены сложные и громоздкие системы лицензирования. В некоторых странах государство даже заставляло фирмы, во имя развития страны, поневоле открывать новые направления своего бизнеса. Во имя защиты прав рабочих вводились обременительные трудовые законодательства. Во многих странах права потребителя были расширены до такой степени, что ущемляли интересы бизнеса.
Пять десятилетий спустя после замечания Чарли Уилсона, летом 2009 года, «Дженерал моторс» обанкротилась. Невзирая на свою общеизвестную неприязнь к государственному управлению бизнесом, правительство США купило компанию и, после масштабной реструктуризации, открыла ее как совершенно новую. На это была потрачена умопомрачительная сумма в 57,6 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков. Можно заявить, что спасение компании было в интересах Америки. Если позволить компании такого размера и с такими производственными связями, как «Дженерал моторс», разом рухнуть, то огромный негативный волновой эффект затронул бы и занятость, и спрос (падение потребительского спроса оставшихся без работы сотрудников «Дженерал моторс», исчезновение спроса «Дженерал моторс» на продукцию поставщиков и др.) и усилил бы начинавшийся в стране финансовый кризис.
Как вообще получилось, что «Дженерал моторс» оказалась в такой ситуации. Столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны импортеров из Германии, Японии, а затем, с 1960-х годов, и Кореи, «Дженерал моторс» не отреагировала самым естественным, хотя и трудным способом, как ей и следовало поступить: начать производить автомобили, которые будут лучше, чем у конкурентов.
Вместо этого компания-гигант попыталась найти легкий выход. Во-первых, она обвинила своих конкурентов в демпинге и прочих нечестных методах ведения торговли и заставила американское правительство ввести импортные квоты на иностранные, особенно японские, автомобили и открыть внутренние рынки конкурентов.
Вообще-то США в целом могли бы и выиграть, если бы «Дженерал моторс» заставили вкладывать средства в технологии и станки, необходимые для производства более качественных автомобилей, а не позволяли ей заниматься лоббированием, добиваясь протекционистских законов, скупать конкурентов и превращаться в финансовую компанию.
Случившееся также заставляет задуматься о конфликтах между различными участниками бизнеса компании: что хорошо для одних, например, для директоров и миноритарных акционеров, купивших акции на короткий срок, то может быть плохо для других — для рабочих компании и для ее поставщиков. Наконец, эта история говорит нам: то, что хорошо для компании на текущий момент, может плохо отозваться для нее самой в отдаленной перспективе — что хорошо для «Дженерал моторс» сегодняшней, может оказаться плохо для «Дженерал моторс» завтрашней.
В начале 1990-х годов гонконгский англоязычный деловой журнал «Фар ист экономик ревью» выпустил специальный номер, посвященный Южной Корее. В одной из статей журнала высказывалось удивление, что, несмотря на необходимость получить до двухсот девяноста девяти разрешений от ста девяноста девяти учреждений, чтобы открыть фабрику, Южная Корея за последние тридцать лет увеличивала доход на душу населения на 6% в год. Как это возможно? Как может страна с таким жестким режимом регулирования развиваться так быстро? Аналогичная ситуация наблюдалась в Японии и на Тайване на протяжении всех лет «экономического чуда», с 1950-х по 1980-е годы. Точно так же строго регулировалась в последние три десятилетия своего стремительного роста китайская экономика.
Первое объяснение загадки в том, что, как это ни удивительно для большинства людей, не имеющих опыта в бизнесе, бизнесмены получат двести девяносто девять разрешений (если повезет, обойдя некоторые барьеры при помощи взяток), если в результате этого процесса они смогут сделать неплохие деньги.
Причина, по которой некоторые страны, серьезно регулировавшие бизнес, успешно развивались экономически, в том, что большое количество законов на самом деле полезно для бизнеса. Некоторые законы помогают бизнесу, не позволяя фирмам заниматься деятельностью, которая на сегодня принесет им больше прибылей, но потом уничтожит общие ресурсы, которые необходимы всем экономически активным компаниям. Например, регулирование в рыбоводстве может уменьшить доход отдельных рыбных хозяйств, но поможет рыбной индустрии в целом, сохранив качество воды, которую приходится использовать всем рыбоводческим фермам. Еще пример: отдельные банки могут получить выгоду от более агрессивного кредитования. Но когда по этому пути пойдут все банки, рано или поздно все и пострадают, поскольку подобная ссудная деятельность повысит шансы на крах всей системы, что мы и наблюдали в ходе глобального финансового кризиса 2008 года. Ограничение на деятельность банков может оказать им услугу в будущем, даже если на данный момент пользы им не приносит. Или другой пример: в развивающейся стране, которой необходимо импортировать технологии из-за рубежа, правительство может помочь бизнесу ради большей его эффективности в будущем, запретив импорт устаревших зарубежных технологий, которые сегодня принесут импортерам более высокие прибыли, но оставят их с бесперспективной техникой и оборудованием. Государственное ограничение свободы бизнеса ради коллективного интереса капиталистического класса описывал еще Карл Маркс, назвав государство «исполнительным комитетом класса капиталистов».
Важно не абсолютное количество запретов, но их цели и содержание.
19. КОММУНИЗМ ПАЛ, НО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В 1970-х годах многие западные дипломаты называли Советский Союз «Верхней Вольтой с ракетами». Страна была в состоянии отправить человека в космос, но ее жители стояли в очередях за основными продуктами питания, такими как хлеб и сахар. Страна с легкостью штамповала межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные подводные лодки, но не могла произвести нормальный телевизор. Лучшие российские ученые были не менее талантливы, чем их коллеги в капиталистических странах, но жизнь остальной части страны не соответствовала тому же капиталистическому стандарту. В чем же было дело?
В погоне за коммунистическими идеалами, СССР и его коммунистические союзники стремились к всеобщей занятости и полному равенству. Поскольку никому не разрешалось владеть средствами производства, практически всеми предприятиями управляли профессиональные управленцы (за небольшим исключением, вроде мелких ресторанчиков и парикмахерских), что препятствовало появлению дальновидных предпринимателей, таких как Генри Форд или Билл Гейтс. При господствующих политических убеждениях о всеобщем равенстве существовало строгое ограничение уровня заработной платы, которую может получать руководитель предприятия, сколь угодно успешного. То есть, хотя система очевидно была способна разработать передовые технологии, руководителям предприятий недоставало стимулов, чтобы направлять их на производство товаров, действительно нужных потребителю. Политика всеобщей занятости любой ценой приводила к тому, что для дисциплинарного воздействия на работников директора не могли использовать самую страшную угрозу — увольнение. Отсюда и небрежность в работе, и прогулы — когда Горбачев пытался реформировать советскую экономику, он часто говорил о проблемах трудовой дисциплины.
Конечно, это не означает, что в коммунистических странах никто не был заинтересован работать хорошо или ответственно управлять компанией. С особенной романтикой относились к строительству нового общества на заре коммунистической эры. Патриотизм в Советском Союзе во время Второй мировой войны и сразу после нее тоже имел огромный размах.
Кстати, к 1960-м годам идеалистическая уравниловка раннего коммунизма уступила место реализму, и прогрессивная оплата труда стала нормой, смягчая (но ни в коей мере не снимая) проблемы стимулирования. Несмотря на это, система по-прежнему функционировала плохо из-за неэффективности коммунистической централизованной системы планирования, которая считалась более эффективной альтернативой рыночной системе.
Централизованное планирование оправдывало себя, когда цели были сравнительно небольшими и понятными, что видно по успехам начального этапа советской коллективизации, где главным было произвести сравнительно небольшое число основных продуктов в больших объемах (сталь, трактора, зерно, картофель и т. д.). Но по мере того, как экономика развивалась и появлялись все более разнообразные продукты, реальные и потенциальные, планировать ее централизованно становилось все труднее. Конечно, с развитием экономики возможности планирования также увеличились, благодаря развитию административных навыков, математических методов планирования и компьютеров. Но развития возможностей планирования оказалось недостаточно, чтобы справиться с растущей сложностью экономического устройства.
Очевидным решением было ограничение ассортимента продукции, но этот шаг создал огромный неудовлетворенный спрос. Да и при уменьшенном ассортименте экономика все равно оставалась слишком сложной для планирования. Производилось много не находящих спроса товаров, которые оставались нераспроданными, и при этом наблюдалась нехватка многих других продуктов, порождавшая повсеместные очереди. Когда к 1980-м годам коммунизм начал разрушаться, к системе, которая оказывалась все более неспособной выполнять свои обещания, относились с таким цинизмом, что в коммунистических странах ходила шутка: «мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят».
Неудивительно, что как только вслед за падением Берлинской стены правящие партии во всем социалистическом блоке получили отставку, от централизованного планирования повсеместно отказались.
То, что коммунизм исчез, с практической точки зрения не означает, что прекратило свое существование и планирование. Правительства капиталистических стран тоже занимаются планированием, хотя и не таким всеобъемлющим, как централизованное планирование, осуществлявшееся руководством коммунистических стран.
Даже в капиталистической экономике бывают ситуации, когда централизованное планирование более эффективно — например, тотальная война. Так, в годы Второй мировой войны экономика ведущих капиталистических стран, участвовавших в войне — США, Великобритании и Германии, — была во всем, кроме названия, полностью плановой.
Но главное не это. Многие капиталистические страны успешно используют, что называется, «индикативное», или «рекомендательное» планирование. При этом планировании правительство капиталистической страны устанавливает широкие цели по ключевым экономическим показателям (например, инвестиции в стратегические отрасли, развитие инфраструктуры, экспорт) и работает для их достижения не против частного сектора, а совместно с ним. В отличие от централизованного планирования, эти цели не являются юридически обязательными. Тем не менее, правительство всячески старается добиться выполнения поставленных целей, используя имеющиеся в его распоряжении «пряники» (субсидии, предоставление монопольных прав) и «кнуты» (законы, воздействие через государственные банки).
В 1950–1960-х годах Франция через индикативное планирование достигла большого успеха в стимулировании инвестиций и технических инноваций, догнав британскую экономику и став второй в Европе промышленной державой. Другие европейские страны, такие как Финляндия, Норвегия и Австрия, в 1950–1970-х годах тоже успешно применяли индикативное планирование для модернизации экономики. Страны восточноазиатского экономического чуда — Япония, Корея и Тайвань — также пользовались индикативным планированием в 1950–1980-х годах. Нельзя сказать, что все эти опыты рекомендательного планирования были успешны. Например, в Индии — нет. Тем не менее, в некоторых формах планирование вполне совместимо с капитализмом и даже способствует капиталистическому развитию.
Большинство капиталистических стран планируют и формируют будущее ряда наиболее важных отраслей посредством так называемой отраслевой промышленной политики. Все европейские и восточноазиатские страны, практиковавшие рекомендательное планирование, активно практиковали и отраслевую промышленную политику. Отраслевую политику применяли даже страны, не прибегавшие к рекомендательному планированию, такие как Швеция и Германия.
В большинстве капиталистических стран государство владеет, а часто и управляет существенной долей национальной экономики через государственные предприятия (ГП). ГП часто встречаются в важных секторах инфраструктуры (таких как железные и автомобильные дороги, воздушные и морские порты) или в основных обслуживающих отраслях (водоснабжение, электричество, почтовая служба), но попадаются и в промышленности или финансах. Доля ГП в национальном продукте может доходить до двадцати с лишним процентов, как в случае Сингапура, или не подниматься выше одного процента, как в случае США, но в среднем по миру она составляет 10%. Если государство планирует деятельность ГП, это означает, что существенная часть экономики среднестатистической капиталистической страны планируется напрямую. Если мы вспомним что ГП обычно создаются в отраслях, оказывающих огромное влияние на остальную экономику, косвенный эффект планирования, осуществляемого через ГП, окажется еще больше, чем можно предположить, исходя из доли ГП в производстве валового национального продукта.
Во всех капиталистических странах государство планирует картину будущего национальной промышленности, финансируя важную долю (20–50%) научных разработок. Интересно, что США, в этом отношении, — одна их самых плановых капиталистических экономик. С 1950-х по 1980-е годы доля государственного финансирования научно-исследовательской деятельности на «свободном» рынке США составляла от 47 до 65%, против примерно 20% в Японии и Корее и менее 40% в некоторых европейских странах (например, Бельгии, Финляндии, Германии, Швеции.
Бизнес-предприятия планируют свою деятельность — иногда до последней детали. Собственно, отсюда Маркс и почерпнул идею централизованного планирования всей экономики в целом. Когда он говорил о планировании, в реальности ни одно государство планированием не занималось. В те времена планировали свою деятельность только фирмы. Маркс был уверен, что как только частная собственность будет отменена и капиталисты уничтожены как класс, то рациональные зерна этого деспотизма будут выделены и поставлены на службу общественному благу.
С развитием капитализма в различных областях экономики все больше и больше начинают господствовать крупные корпорации. Это значит, что доля капиталистической экономики, охваченная планированием, растет. Приведу конкретный пример: сегодня, в зависимости от оценок, от одной трети до половины международной торговли составляют операции между различными подразделениями транснациональных корпораций. Интересный вывод: экономика богатых стран планируется больше, чем экономика бедных, по той причине, что первые более широко охвачены деятельностью крупных корпораций, а влияние государства там часто проникает глубже (хотя зачастую оно и менее заметно, из-за того что осуществляется более аккуратно).
Конечно, в отсутствие рынков мы придем к недостаткам советской системы. Но полагать, что можно жить одним лишь рынком, — все равно что считать, будто можно есть одну соль, потому что соль необходима для жизни.
20. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОГУТ БЫТЬ НЕСПРАВЕДЛИВЫ
Многие формальные правила, ограничивающие равенство возможностей, были уничтожены при жизни нескольких последних поколений. Во многом это произошло в результате политической борьбы дискриминируемых — такой как чартистские требования всеобщего избирательного права (для мужчин) в Великобритании в середине XIX века, движение за гражданские права черных в США в 1960-х годах, борьба против апартеида в Южной Африке во второй половине XX века и сегодняшняя борьба низших каст в Индии. Без этих и бессчетных других выступлений женщин, угнетенных рас и низших каст мы бы до сих пор жили в мире, где ограничение прав людей по принципу «лотереи рождения» считалось бы естественным.
Сегодня мало кто станет в открытую возражать против принципа равных возможностей. Но далее мнения резко разделяются. Некоторые утверждают, что равенство должно заканчиваться равенством возможностей. Другие, и я в том числе, считают, что простого равенства возможностей недостаточно. Безусловно, чрезмерные попытки уравнять результаты труда — скажем, маоистская коммуна, где практически нет никакой связи между затраченными человеком усилиями и получаемым за них вознаграждением, — окажут отрицательное влияние на отношение к работе. Это тоже несправедливо. Но я убежден, что некоторая степень уравнительного отношения к вознаграждению за труд тоже нужна, если мы хотим построить подлинно справедливое общество.
Сегодня ни одна страна не препятствует детям из бедных семей посещать школу, но многие дети в бедных странах не могут пойти учиться, потому что не имеют средств оплатить обучение. Даже в странах с бесплатным общим образованием дети из бедных семей обречены плохо учиться, независимо от своих способностей. Некоторые из них не едят дома и не ходят на обед в школе. Поэтому им трудно сосредоточиться, и результат успеваемости вполне предсказуем. В некоторых случаях их интеллектуальное развитие уже бывает задержано из-за недостатка полноценного питания в ранние годы жизни. Эти дети чаще болеют и поэтому чаще пропускают занятия. Если их родители неграмотны и /или вынуждены помногу работать, некому помочь ребенку с уроками, тогда как детям из среднего класса помогают родители, а у богатых детей будут частные преподаватели. Детям из бедных семей может не хватать времени делать уроки, если им приходится приглядывать за младшими братьями и сестрами или пасти коз. Если мы хотим предоставить детям минимально равные шансы, доходы родителей должны быть хотя бы приблизительно равны.
И во взрослой жизни также должно быть обеспечено определенное равенство промежуточных возможностей. Хорошо известно, что если человек долгое время оставался без работы, ему все труднее и труднее вернуться на рынок труда. Но потеряет кто-то работу или нет, определяется не только «ценностью» этого человека. Многие теряют работу потому, что решают перейти в отрасль, которая поначалу казалась перспективной, но с тех пор получила серьезный удар от внезапно возросшей конкуренции на международном рынке. Справедливо ли, что этим людям приходится несоразмерно страдать, будучи выброшенными на обочину истории?
Конечно, на идеальном свободном рынке такое не должно стать проблемой, поскольку американские сталелитейщики и английские корабелы могут получить работу в развивающихся отраслях. Но много ли вы знаете бывших американских сталелитейщиков, которые стали компьютерными инженерами, или бывших англичан-корабелов, которые переквалифицировались в инвестиционных банкиров? Если такое происходит, то крайне редко.
Более справедливым было бы помогать уволенным рабочим начать новую карьеру, выплачивая им достойные пособия по безработице, предоставляя страховку, даже когда они остались без места, предлагая программы переподготовки и помощь в поисках работы, что особенно хорошо удается скандинавским странам. Скандинавские страны отличаются более высокой социальной мобильностью. Чем лучше развито социальное обеспечение, тем выше мобильность.
Если мы не создадим среду, где каждому обеспечены определенные минимальные шансы через гарантию минимального дохода, образования и здравоохранения, то нельзя говорить, что мы создали справедливую конкуренцию.
21. ПРИ «БОЛЬШОМ ГОСУДАРСТВЕ» ЛЮДИ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕН
В Европе, если ваша отрасль приходит в упадок и вы теряете работу, это будет для вас большим ударом, но не концом света. У вас по-прежнему остается медицинская страховка и муниципальное жилье (или дотации на жилищное строительство), и при этом вы будете получать пособие (доходящее до 80% от вашей последней зарплаты), у вас есть возможность пойти на оплачиваемые государством курсы переподготовки, и вы можете рассчитывать на помощь государства при поиске работы.
Напротив, если вы работаете в США, то хорошо бы занимать прочное положение на своей нынешней работе, если понадобится, то не грех и опереться на чью-то протекцию, потому что потеря работы означает потерю почти всего. Страховое покрытие при страховке на случай отсутствия занятости — неравномерное и выплачивается в течение меньшего срока, чем в Европе. Помощь в переподготовке и поиске новой работы государством почти не осуществляется. Еще неприятнее, что потеря работы означает потерю медицинской страховки, а возможно, и крыши над головой, поскольку муниципального жилья мало, как и государственных дотаций на аренду жилья. В результате сопротивление работников любому реструктурированию в отрасли, влекущему за собой сокращение рабочих мест, в США гораздо выше, чем в Европе. Большинство американских рабочих не способны на организованное сопротивление, но остальные — члены профсоюза — пойдут на все, чтобы сохранить существующее положение с рабочими местами и их распределением.
До середины XIX века ни в одной стране не было закона о банкротстве в современном понимании. То, что ранее называлось законом о банкротстве, плохо защищало обанкротившегося бизнесмена от кредиторов, не давало банкротам второго шанса, поскольку от них требовалось уплатить все долги, сколько бы времени это ни заняло, если только от этой обязанности их не избавляли кредиторы. Со временем был сделан вывод, что отсутствие второго шанса серьезно удерживает бизнесменов от принятия рискованных решений. В мире стали принимать современные законы о банкротстве, дающие судебную защиту от кредиторов в период начальной реструктуризации, а главное — возможность для суда уменьшать сумму задолженности, даже против воли кредиторов. В сочетании с такими институтами, как ограниченная ответственность, которая была введена примерно в то же время, новое законодательство о банкротстве уменьшало опасность любого делового начинания и тем самым стимулировало риски, что сделало возможным современный капитализм.
Пока система социального обеспечения дает работникам второй шанс, мы можем говорить, что она выступает для них как закон о банкротстве. Система соцобеспечения стимулирует рабочих быть более открытыми к переменам (и к рискам, которые неизбежно им сопутствуют). Зная, что им будет предоставлен еще один шанс, люди будут смелее, делая изначальный карьерный выбор, и охотнее пойдут на смену работы во время своей трудовой деятельности. Поэтому «большое государство» может сделать людей более открытыми к переменам, а значит, превратить экономику в более динамичную.
22. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕ БОЛЕЕ, А МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ
Уже будучи богатой, в конце 1990-х годов исландская экономика получила турбореактивный разгон, благодаря решению тогдашнего правительства приватизировать и либерализовать финансовый сектор. С 1998 по 2003 год страна провела приватизацию государственных банков и инвестиционных фондов, отменив даже основные ограничения на их деятельность, такие как требование обязательных резервов для банков. Вслед за этим исландские банки стали расширяться с поразительной скоростью, находя клиентов не только на родине, но и за рубежом. Возможности интернет-обслуживания позволили им уверенно вторгнуться в Великобританию, Нидерланды и Германию. С конца 1990-х годов Исландия развивалась необычайными темпами и к 2007 году стала пятой богатейшей страной мира (после Норвегии, Люксембурга, Швейцарии и Дании). Казалось бы, выше только небо.
К несчастью, после мирового финансового кризиса 2008 года исландская экономика потерпела крах. В то лето все три ее крупнейших банка обанкротились и были взяты под государственное управление. Экономика страны в 2009 году, по оценке МВФ, падала с темпами в 8,5% — самым высоким уровнем снижения производства среди богатых стран.
Рискованность безудержной финансовой активности Исландии с конца 1990-х годов становится все более очевидной. В 2007 году банковские активы достигли эквивалента 1000% ВВП, что в два раза выше, чем в Великобритании, стране с одним из самых развитых банковских секторов в мире. Кроме того, вскрылся сомнительный характер финансовых сделок, стоящих за исландским экономическим чудом: очень часто основные заемщики в банках были акционерами тех же самых банков.
Еще одним финансовым «узлом», применяя ту же стратегию, попыталась стать Ирландия. В 2007 году ее финансовые активы достигли 900% ВВП. Подобно Исландии, Ирландия также испытала серьезный спад во время мирового финансового кризиса 2008 года. На момент написания книги ирландская экономика, по оценке ВМФ, сократилась в 2009 году на 7,5%. Латвии, еще одной стране, также пожелавшей стать финансовым «узлом», досталось еще сильнее. Финансовый бум в стране оборвался резким падением, и после коллапса ее экономика, по оценке МВФ, упала в 2009 году на 16%.
То, чем занимались Исландия и Ирландия, к сожалению, оказалось лишь крайними проявлениями экономической стратегии, осуществляемой многими странами: это стратегия роста, основанная на финансовой дерегуляции. Впервые данная стратегия была применена Соединенными Штатами и Великобританией в начале 1980-х годов.
Что побуждало все новые и новые страны брать на вооружение стратегию роста, основанную на дерегулировании финансов? Дело в том, что при подобной системе легче получить прибыль от финансовых операций, чем от других видов экономической деятельности — по крайней мере, так казалось до кризиса 2008 года.
Мой коллега из Кембриджа и ведущий авторитет по финансовым кризисам, Габриэль Палма, провел расчеты, основанные на данных ВМФ, и выявил, что соотношение запаса финансовых активов к объему мирового производства с 1980 по 2007 год выросло с 1,2 до 4,4. Это означает, что к каждому основному активу и основному виду деятельности предъявлялись все новые и новые финансовые требования. Создание производных финансовых инструментов («деривативов») на рынке жилья, послуживших одной из основных причин кризиса 2008 года, очень хорошо это иллюстрирует. В прежние времена, когда человек брал деньги в долг у банка и покупал дом, банк-кредитор владел конечным финансовым продуктом (ипотечной закладной), и все. Но финансовые инновации ввели в оборот ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), которые объединяли до нескольких тысяч закладных. В свою очередь, ИЦБ, иногда до 150 единиц, объединяли в облигацию, обеспеченную долговыми обязательствами (ОДО). Затем были созданы ОДО в квадрате, использовавшие другие ОДО в качестве залогового обеспечения. А потом соединением ОДО и ОДО в квадрате были созданы ОДО в кубе. Появились даже ОДО и более высоких степеней. Свопы на дефолт по кредиту (СДК) были созданы для того, чтобы защитить вас от дефолта по ОДО. И есть еще множество производных инструментов, составляющих весь этот алфавит современных финансов.
На этом этапе и я сам уже начинаю путаться (и получается, также путались и люди, занимавшиеся всем этим), но суть в том, что один и тот же основной актив — то есть дома, находившиеся в первоначальной ипотеке, — и виды экономической деятельности — зарабатывание дохода держателями первоначальных ипотек — использовались снова и снова, «производя» новые активы. Но какой бы финансовой алхимией вы ни занимались, приносят ли эти активы ожидаемые результаты, зависит в конечном итоге от того, будут ли вовремя справляться с выплатами эти сотни тысяч работников и хозяев малого бизнеса, которые являются держателями первоначальной ипотеки.
Уоррен Баффет, американский инвестор, известный своим трезвым подходом к инвестированию, назвал производные финансовые инструменты «оружием массового финансового поражения» — задолго то того, как их разрушительность доказал кризис 2008 года.
Вся моя критика слишком бурного развития финансового сектора последних двадцати-тридцати лет отнюдь не говорит о том, что финансы в целом — это зло. Напротив, если бы мы послушались Адама Смита, который выступал против обществ с ограниченной ответственностью, или Томаса Джефферсона, который считал банковскую сферу «более опасной, чем регулярные армии», наша экономика до сих пор состояла бы если не из булавочных фабрик Адама Смита, то из «сатанинских мельниц» викторианской эпохи.
Необходимым для экономического развития, но потенциально нецелесообразным и даже разрушительным делает финансовый капитал его большая ликвидность по сравнению с промышленным капиталом. Предположим, вы хотите продать половину своей фабрики (скажем, чтобы заняться новым направлением бизнеса), но никто не купит половину здания и половину производственной линии. В этом случае вы с облегчением узнаете, что можно выпустить акции и продать половину ваших акций. Иными словами, финансовый сектор помогает компаниям расширяться и диверсифицировать производство, благодаря способности финансовой системы превращать неликвидные активы, такие как здания и станки, в ликвидные, такие как займы и акции.
Однако сама ликвидность финансовых активов таит в себе потенциальную опасность для экономики в целом. Строительство фабрики занимает не меньше нескольких месяцев, а то и лет, а накопление технологических и административных знаний, необходимых для создания компании международного класса, требует десятилетий. Финансовые активы, напротив, могут перемещаться и перегруппировываться за считанные минуты, если не секунды. Эта огромная временная пропасть создает серьезные трудности, так как финансовый капитал «нетерпелив» и ищет быстрой наживы. Отсюда возникает экономическая нестабильность, так как ликвидный капитал мечется по миру непредсказуемо и «иррационально». Но еще важнее, что в перспективе ослабляется рост производительности, так как сокращаются долгосрочные инвестиции ради удовлетворения «нетерпеливого капитала».
Таким образом, именно потому, что финансы чутко реагируют на изменение возможностей получения прибыли, они могут стать опасны для экономики в целом. Поэтому Джеймс Тобин, лауреат Нобелевской премии 1981 года по экономике, говорил о необходимости «подсыпать песку в колеса наших чересчур деятельных международных финансовых рынков». С этой целью Тобин предложил ввести налог на финансовые операции, предназначенный специально для того, чтобы замедлить денежные потоки. Другие средства включают в себя создание барьеров для враждебного поглощения (тем самым мы уменьшим прибыли от спекулятивных инвестиций в акционерный капитал), запрет на продажу ценных бумаг без покрытия (практика продажи акций, которыми в данный момент вы не владеете), увеличение размера предписываемой маржи (той части денег, которая должна быть уплачена вперед при покупке акций) и установление ограничений на движение капитала между странами, особенно в случае развивающихся стран.
Это не значит, что данный разрыв между финансами и реальным сектором должен быть сокращен до нуля. Финансовая система, полностью синхронизированная с реальной экономикой, будет бесполезна. Весь смысл финансов в том, что они могут двигаться быстрее, чем реальная экономика. Но если финансовый сектор движется слишком быстро, он может вызвать крах реальной экономики. В нынешних обстоятельствах нам необходимо переориентировать финансовую систему так, чтобы она позволяла компаниям проводить долгосрочные капиталовложения в физический капитал, в профессиональные навыки персонала и в организации, которые в конечном счете и являются источником экономического развития, и при этом обеспечивать этим капиталовложениям необходимую ликвидность.
23. ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ХОРОШИЕ ЭКОНОМИСТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ
В ходе промышленной «революции» XIX века темпы роста среднедушевого дохода в экономике стран Западной Европы и их «отпрысков» (Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии) составляли от 1 до 1,5% в год. Во время так называемого «золотого века капитализма», с начала 1950-х по середину 1970-х годов, в Западной Европе и «порожденных ею» странах доход на душу населения рос примерно на 3,5–4% в год.
В Японии, Тайване, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и Китае примерно между 1950-ми и серединой 1990-х годов (в случае Китая — между 1980-ми и сегодняшним днем) — доход на душу населения увеличивался приблизительно на 6–7% в год. Если показатели роста в 1–1,5% описываются как «революция», а 3,5–4% — как «золотой век», то 6–7% заслуживают называться «чудом». При таких экономических рекордах, естественно будет предположить, что в этих странах, по всей видимости, много хороших экономистов.
Увы! На самом деле в глаза бросается, наоборот, отсутствие экономистов в правительствах стран восточноазиатского экономического чуда. Японские чиновники, отвечавшие за экономику, были главным образом юристами по образованию. На Тайване большинство государственных лиц в экономике были инженерами и учеными, а не экономистами, как и в сегодняшнем Китае. В Корее также был высок процент юристов в экономической бюрократии, особенно до 1980-х годов. О Вон-Чул, «мозг» программы индустриализации в тяжелой и химической промышленности в 1970-х годах, по образованию был инженером.
Если для получения хороших экономических показателей не требуются экономисты, как в случае восточноазиатских стран, то зачем тогда вообще нужна наука экономика? Одно из возможных объяснений восточноазиатского опыта таково: тем, кто управляет экономической политикой, нужны не столько специальные знания по экономике, сколько общая образованность. Возможно, та экономика, которую преподают в университетских аудиториях, слишком оторвана от реальности, чтобы ее можно было применять на практике. Если дело именно в этом, то государство получит больше способных творцов экономической политики, набирая на работу тех, кто изучал самый престижный в стране предмет (это может быть юриспруденция, техника, пусть даже и экономика, это зависит от страны), а не предмет, который теоретически больше всего подходит для формирования экономической политики (то есть, экономическую науку).
Похоже, в реальном мире экономисты не имеют никакого отношения к управлению экономикой. На самом деле все еще хуже. Есть основания полагать, что экономика как наука может быть откровенно вредна для экономики страны.
В ноябре 2008 года королева Елизавета II нанесла визит в Лондонскую школу экономики, в состав которой входит один из самых уважаемых экономических факультетов в мире. После выступления одного из профессоров, Луиса Гарикано, говорившего об охватившем весь мир финансовом кризисе, королева спросила: «Как вышло, что никто не сумел этого предвидеть?»
Узнав о выраженной королевой озабоченности, Британская академия созвала 7 июня 2009 года заседание с участием ряда ведущих экономистов из академических кругов, представителей финансового сектора и правительства. Результаты этого заседания были переданы королеве в виде письма, датированного 22 июля 2009 года. В этом письме профессора Бесли и Хеннесси говорили, что отдельные экономисты компетентны и «сами по себе выполняют свою работу как следует», но в преддверии кризиса они «не смогли за деревьями увидеть лес».
Но это заведомое принижение их роли. За последние тридцать лет экономисты сыграли важную роль в подготовке условий для возникновения кризиса 2008 года (и десятка менее крупных финансовых потрясений, которые ему предшествовали, начиная с 1980-х годов, таких как долговой кризис стран «третьего мира» в 1982 году, мексиканский кризис песо в 1995 году, азиатский кризис 1997 года и российский кризис 1998 года), предоставляя теоретические обоснования для финансовой дерегуляции и безудержной гонки за сиюминутными прибылями. Если смотреть более широко, они выдвигали теории, оправдывающие политику, которая привела к замедлению роста, увеличению неравенства, повышению негарантированности рабочих мест и к участившимся финансовым кризисам, неотступно преследовавшим мир в последние три десятилетия. Помимо этого, они проталкивали меры, которые ухудшали перспективы долгосрочного развития в развивающихся странах. В богатых странах эти же экономисты убеждали людей в огромной значимости излишне переоцененных новых технологий, делали жизнь людей все более и более нестабильной, требовали не обращать внимания на утрату страной контроля над национальной экономикой и благодушно принимать деиндустриализацию. Кроме того, они выдвинули целый ряд аргументов, пытаясь убедить нас, что все эти экономические результаты, которые у многих людей в мире вызывают нарекания, — такие как все увеличивающееся неравенство, запредельные вознаграждения руководству корпораций или крайняя нищета в бедных странах — вещи неизбежные, которые объясняются человеческой природой, эгоистичной и рациональной, и необходимостью вознаграждать людей сообразно их вкладу в производство.
Иными словами, экономическая теория оказалась не просто неадекватной. Экономика, в том виде, в котором она практикуется последние три десятка лет, для большинства людей оказалась попросту вредоносной.
Если с экономической наукой все так плохо, как я описываю, тогда что делаю в экономистах я? Экономикой я продолжаю заниматься потому, что уверен: она не должна быть полезной или вредной. На протяжении этой книги я и сам пользовался экономической наукой, пытаясь объяснить, как на самом деле устроен капитализм. Опасен определенный тип экономики, а именно — рыночная экономика в том виде, в котором ее выстраивали в последние несколько десятков лет.
В истории насчитывается множество экономических школ, которые помогали нам эффективнее развивать нашу экономику и управлять ею. Если начать с ситуации, в которой мы оказались сегодня, то мировую экономику от полного краха осенью 2008 года спасли идеи Джона Мейнарда Кейнса, Чарльза Киндлбергера и Хаймана Мински. Мировая экономика не докатилась до ситуации, которая предшествовала Великой депрессии 1929 года, потому, что мы восприняли их идеи и оказали поддержку ключевым финансовым институтам (правда, еще не наказали должным образом банкиров, устроивших весь хаос, и не реформировали отрасль), увеличили бюджетные расходы, организовали страхование банковских вкладов, поддержали социальное обеспечение (которое субсидирует оставшихся без работы) и в беспрецедентных масштабах наводнили финансовый рынок ликвидностью. Как рассказывалось в предыдущих Тайнах, многим из этих шагов, которые «спасли мир», сопротивлялись экономисты-рыночники предыдущих поколений и поколения нынешнего.
Хотя чиновники, отвечавшие за экономику в странах Восточной Азии, не имели экономического образования, кое-что в экономике они понимали. Однако — особенно до начала 1970-х годов — та экономика, которую они знали, большей частью была не рыночного типа. Та экономика, которую они, по стечению обстоятельств, знали, была экономикой Карла Маркса, Фридриха Листа, Йозефа Шумпетера, Николаса Калдора и Альберта Хиршмана. Конечно, эти экономисты жили в разное время, обсуждали вопросы различной проблематики. Тем не менее, между их экономическими теориями прослеживается нечто общее. Это признание того факта, что капитализм развивается через долгосрочные инвестиции и технические инновации, которые преобразуют структуру производства, а не просто через расширение существующих структур, подобное надуванию воздушного шарика. Многое из того, что осуществили в «чудесные» годы восточноазиатские правительственные чиновники — защита неокрепших отраслей, принудительное перенаправление ресурсов от технологически застойного сельского хозяйства к динамичному промышленному сектору и использование, как назвал их Хиршман, «связей» между различными секторами, — идет от подобных экономических взглядов, а не от рыночного подхода. Если бы восточноазиатские страны, а до них — большинство богатых стран в Европе и Северной Америке, управляли своей экономикой по принципам свободного рынка, они бы не смогли развиться так, как им это удалось.
Когда мы осознаем, что современная экономика населена людьми с ограниченной рациональностью и сложными мотивами, которые организованы сложным способом, сочетающим в себе рынки, бюрократический аппарат, государственный и частный, и сети контактов, то мы начнем понимать, что нашей экономикой нельзя управлять по рыночному мифу. Если же более пристально взглянуть на успешные фирмы, правительства и страны, то окажется, что они исповедуют именно этот, более тонкий взгляд на капитализм, а не упрощенное видение рынка.
Даже в рамках господствующей экономической школы существуют теории, которые объясняют, почему свободные рынки будут давать не самые удовлетворительные результаты. Это теории «фиаско рынка» или «экономики благосостояния», впервые разработанные в начале XX века кембриджским профессором Артуром Пигу и позднее развитые такими современными экономистами, как Амартия Сен, Уильям Бомол и Джозеф Стиглиц, и это только некоторые из самых важных имен. Экономисты-рыночники, конечно, либо игнорировали этих «других», либо, что хуже, отвергали их как лжепророков.
Экономическая наука не всегда бесполезна или вредна. Просто надо изучать правильную экономику.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КАК ВОССТАНОВИТЬ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Как я старался показать, фундаментальные теоретические и эмпирические предпосылки, лежащие в основе свободной рыночной экономики, весьма сомнительны. Необходим тотальный пересмотр принципов, на которых строятся наши экономика и общество.
Я вкратце обрисую основные принципы — их всего восемь, — которые, по моему мнению, следует иметь в виду, приступая к перестройке нашей экономической системы.
Первое: я критикую капитализм свободного рынка, а не капитализм как таковой.
Стимул получения прибыли по-прежнему является наиболее мощным и эффективным топливом для нашей экономики, и мы должны использовать его в полной мере. Кроме того, рынок представляет собой исключительно эффективный способ координации сложных экономических мероприятий бесчисленных экономических агентов, но не более того, — это механизм, машина. И, как все машины, он требует тщательного регулирования и управления.
Существуют различные способы «организации» капитализма. Свободный рынок — лишь один из них, и отнюдь не наилучший. Последние три десятилетия показали, что, вопреки уверениям его сторонников, он замедляет экономику, увеличивает социальное неравенство и нестабильность и приводит к более частым (порой глобальным) финансовым катастрофам.
Нет и не может быть общей идеальной модели. Американский капитализм разительно отличается от скандинавского, который, в свою очередь, совсем не похож на немецкий или французский, не говоря уже о японском. Например, в странах, для которых американский стиль экономического неравенства неприемлем, возможна борьба с ним через создание и развитие социального государства, финансируемого высоким прогрессивным налогом на прибыль (в Швеции).
Таким образом, капитализму мы говорим «да», но мы обязаны завершить наш роман с безудержным свободным рынком.
Второе: мы должны создавать нашу новую экономическую систему с осознанием ограничений человеческого мозга.
Кризис 2008 года показал, что сложность мира, построенного нами, особенно в сфере финансов, значительно опережает нашу способность понимать этот мир и им управлять. Основная проблема кроется не в отсутствии информации, а в наших ограниченных возможностях по ее обработке.
Если мы всерьез намерены не допускать новых кризисов, следует категорически запретить сложные финансовые инструменты, если не будет убедительно доказано, что они способны принести пользу обществу в долгосрочной перспективе.
В-третьих, отнюдь не изображая из себя бескорыстных ангелов, мы должны создать систему, которая несет людям лучшее, а не худшее.
Материальные интересы в самом деле выступают мощным стимулом. Коммунистическая система оказалась нежизнеспособной, поскольку игнорировала, вернее, желала отказаться от данного человеческого побуждения.
Нужно создать систему, при которой материальное благополучие ценится по-прежнему, но не может быть единственной целью. Организации — будь то корпорации или государственные ведомства — должны перестроиться и вознаградить доверие, солидарность, честность и сотрудничество.
Дело не просто в моральном аспекте. Таким образом мы апеллируем к «просвещенному» личному интересу. Позволяя править бал краткосрочной корысти, мы рискуем создать систему, которая в долгосрочной перспективе не служит ничьим интересам.
В-четвертых, мы должны перестать верить, что людям платят «по заслугам».
Жители бедных стран, каждый по отдельности, зачастую более продуктивны и предприимчивы, чем их коллеги из развитых стран. Если предоставить им равные возможности посредством свободной иммиграции, эти люди могут и заменят большую часть рабочей силы в развитых странах, пусть это политически неприемлемо и нежелательно. Следовательно, именно национальные экономические системы и иммиграционный контроль в богатых странах, а вовсе не отсутствие требуемых личных качеств, держат бедных людей в бедных странах в нищете.
С другой стороны, выплаты топ-менеджерам в США воспарили в заоблачные выси в последние несколько десятилетий. Относительный уровень оплаты труда американских менеджеров вырос, по крайней мере в десять раз с 1950 года (в среднем генеральный директор ранее получал тридцать пять зарплат среднего рабочего, а сегодня получает больше в 300–400 раз). Американские менеджеры получают в два с половиной раза больше, чем их голландские коллеги, и в четыре раза больше, чем японские, несмотря на отсутствие явного превосходства в производительности.
Мы можем и должны изменить правила фондового рынка и системы корпоративного управления, чтобы обуздать размеры выплат в компаниях с ограниченной ответственностью.
Мы должны не только обеспечить равные возможности, но и создать по-настоящему равные стартовые условия для всех детей истинно меритократического общества. Люди должны получать реальный, а не мнимый второй шанс через пособия по безработице и субсидируемую государством переподготовку.
В-пятых, мы должны «заниматься делом» более серьезно. Постиндустриальная экономика знаний — это миф. Производственный сектор по-прежнему имеет жизненно важное значение.
Мы — материальные существа и не можем питаться идеями, как бы шикарно ни звучало словосочетание «экономика знаний». Если вы не относитесь к числу крохотных стран, купающихся в нефти, вроде Брунея или Кувейта, нужно совершенствовать изготовление товаров, чтобы поднять уровень жизни.
Миф о постиндустриальной экономике знаний также способствует неправильному инвестированию. Он побуждает чрезмерно сосредотачиваться, к примеру, на формальном образовании, чье влияние на экономический рост весьма неочевидно и спорно.
Инвестиции в «скучные штуки» наподобие техники, инфраструктуры и обучения работников должны поощряться через соответствующие изменения налоговых правил (например, ускоренная амортизация оборудования), через субсидии (например, на обучение работников) и через государственные инвестиции (к примеру, на развитие инфраструктуры). Промышленную политику следует переосмыслить в целях содействия развитию основных отраслей промышленности с высокой возможностью для роста производительности.
Шестое: мы должны обеспечить наилучший баланс между финансо
вой и реальной деятельностью. Эффективная современная экономика не может существовать без здорового финансового сектора. Но финансовая либерализация обеспечила легкость перемещения средств даже через национальные границы, что привело к стремлению инвесторов получать мгновенную отдачу. Как следствие, корпорации и правительства вынуждены проводить политику, которая сулит быструю прибыль, независимо от долгосрочных последствий. Облегчение движения финансов также привело к росту финансовой нестабильности и сокращению гарантий занятости (что необходимо для извлечения быстрой прибыли).
Финансы нужно принудительно замедлить. Финансовые транзакции, налоги, ограничения на транснациональные перемещения капитала (в частности, в и из развивающихся стран), более жесткие ограничения на слияния и поглощения — вот комплекс мер, которые позволят замедлить финансовый сектор до скорости, на какой он будет поддерживать, а не ослаблять или даже разрушать реальную экономику.
Седьмое: правительство должно становиться все больше и активнее.
Роль государства следует полностью пересмотреть.
Дело не просто в кризисном управлении, распространившемся с 2008 года, даже в образцово свободных рыночных экономиках, наподобие экономики США. Речь о том, чтобы создать процветающее, справедливое и стабильное общество. Демократическое правительство, по крайней мере пока, остается наилучшим инструментом для согласования противоречивых требований общества и, что важнее всего, для улучшения нашего коллективного благосостояния.
Осмысленное и адекватно осуществленное государственное вмешательство может увеличить экономический динамизм, обеспечив поставки материалов там, где не справляется рынок (например, научные исследования, обучение работников и т. д.), позволит разделить риски в проектах с высокой социальной отдачей (и — зачастую — низкой доходностью), а в развивающихся странах создаст пространство, в котором новые компании в «младенческих отраслях» смогут развивать свои производственные мощности.
Мы должны стремиться к построению государства всеобщего благосостояния с лучшей системы регулирования (в частности, для финансового сектора) и лучшей промышленной политикой.
Восьмое: мировая экономическая система должна «несправедливо» подпитывать развивающиеся страны.
Мировая экономическая система должна быть полностью пересмотрена в целях предоставления большего «политического пространства» развивающимся странам, чтобы те имели возможность проводить политику, им подходящую (богатые страны и так могут менять или даже игнорировать международные правила). Развивающиеся страны, в частности, нуждаются в более либеральном режиме использования протекционистских мер, регулирования иностранных инвестиций и прав интеллектуальной собственности. Именно такой политики придерживались богатые страны, когда сами находились в положении развивающихся. Конечно, эти меры кажутся «несправедливо благоприятными» с точки зрения богатых стран.
Перечисленные восемь принципов откровенно противоречат экономической мудрости трех последних десятилетий. Но если мы не откажемся от принципов, которые нас подвели и продолжают тормозить развитие, в будущем нам грозят очередные катастрофы.
Райнерт Эрик С.
Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными
2011
(Конспект)

На совместной конференции «Экономическое будущее Украины», которая состоялась 5 апреля 2019 года, при участии Украинской ассоциации Римского клуба (УАРК) и Киевского международного экономического форума (КМЕФ) было представлено около 500 студентов и преподавателей со всей Украины, а также более десяти спикеров из разных стран и континентов.
Основной фокус экономистов был направлен на юбилейный отчет Римского клуба «Come On! Капитализм, недальновидность, население и разрушение планеты», который представил почетный Президент данного клуба Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер. Он отметил, что постоянный рост экономики был приемлемым для «пустого мира», но не подходит для «полного мира».
Автор мирового бестселлера «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» норвежский профессор Эрик Райнерт посоветовал Украине обратить внимание на такие проблемы как деиндустриализация и миграция, где первая является причиной другой. К слову, рядом с ними шагает и коррупция, которая также лучше лечится индустриализацией. Ключевой же совет спикера — не являться колонией и не делать так, как «сильные мира сего» советуют, а так как они сами делали, чтобы стать успешными.
Секретным спикером из страны, где есть целое Министерство счастья, стал бывший министр образования Бутана Тхакур Поудел.
http://www.aif.ua/money/economy/
ВВЕДЕНИЕ
Еще в 1926 году Джон Мейнард Кейнс (1883–1946), английский экономист, поставивший 1930-м годам диагноз «депрессия», написал книгу под названием «Конец laissez-faire». Однако в 1989 году факт падения Берлинской стены породил почти религиозную эйфорию по поводу свободного рынка, возродил мечты о мировой экономике, которая, наконец, будет соответствовать теории. Первый генеральный секретарь Всемирной торговой организации (ВТО) Ренато Руджеро объявил, что необходимо дать свободу потенциалу экономики без границ выровнять отношения между странами и регионами. Это убеждение лежит в основе идеологии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, международных финансовых организаций, которые с начала 1990-х годов руководят делами в большинстве бедных стран. Во многих странах это руководство привело к катастрофе.
В XXI веке, когда мы начинаем осознавать величие космоса и случайность эволюции, мысль Вольтера о том, что мир, возможно, не был создан с учетом всех капризов и предпочтений человечества, должна казаться очевидной. Однако экономисты и политики сегодня твердят нам со всей уверенностью и авторитетностью мертвых теологов, что мир был бы идеален, начни мы только практиковать laissez-faire и позволить индивидуальным инстинктам, которые принято считать рациональными, свободно взаимодействовать друг с другом, безо всякого вмешательства, кроме самого необходимого.
Избавившись от фантастической идеи, что обогащением народов управляют законы природы, мы можем приступить к оценке того, как и почему определенные экономические принципы в прошлом оказывались для обогащения народов плодотворными и как мы можем использовать этот успешный опыт в будущем.
I. ДВА ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Почему, как недавно подсчитал Всемирный банк, водитель автобуса во Франкфурте получает реальную зарплату, в 16 раз большую, чем не менее профессиональный водитель автобуса в Нигерии? Я решил найти ответ на этот вопрос. В результате родилась книга, которую вы держите в руках.
Только через много лет я понял, что Гарвардская школа бизнеса за два года обучения незаметно сделала меня адептом альтернативной, ныне исчезнувшей экономической традиции, которая куда ближе к реальной жизни, чем сегодняшняя экономическая наука. Метод ситуационного исследования, которым пользуются в деловых школах, основан на методологии Немецкой исторической школы. Стандартная экономическая наука зачастую приучает людей смотреть на мир сквозь призму методологических и математических линз, при этом упуская из вида факторы реальной жизни. Исторический же подход, напротив, собирает любые фактические доказательства, если они имеют отношение к делу. В этой книге глобализация анализируется по методу ситуационного исследования (кейс-стади), как если бы ее анализировала Гарвардская школа бизнеса.
Совершенная, или товарная, конкуренция означает, что производитель не может влиять на цену производимого товара, он работает на совершенном рынке и только из газет узнает, какую цену рынок готов заплатить за его товар. Такая ситуация типична для рынков сельскохозяйственных товаров и минерального сырья. Совершенной конкуренции, как правило, сопутствует ситуация, называемая убывающей отдачей: при расширении производства после достижения определенного момента увеличение количества одних и тех же факторов производства (капитала и/или труда) приводит к производству все меньшего количества продукции.
Когда расширяется производство в промышленности, затраты ведут себя противоположным образом — снижаются, а не растут. Как только механизированное производство налажено, то чем больше растет объем производства, тем меньше становятся издержки на единицу продукции. Например, первый экземпляр компьютерной программы стоит очень дорого, но все последующие копии почти ничего не стоят. В сфере услуг и обрабатывающей промышленности нет активов, зависящих непосредственно от природы, — ни полей, ни шахт, ни рыболовных угодий, ограниченных по количеству или качеству. В этих отраслях увеличение производства вызывает падение издержек или рост отдачи. Промышленным компаниям и производителям продвинутых услуг важно иметь большую долю на рынке, потому что большие объемы производства позволяют им снизить издержки производства за счет растущей отдачи. Растущая отдача создает власть над рынком: компании в большой степени могут влиять на цену того, что они продают. Эта ситуация называется несовершенной конкуренцией.
В богатых странах мы, как правило, наблюдаем несовершенную конкуренцию и экономическую деятельность с растущей отдачей. Постепенно я понял, что все богатые страны разбогатели одинаковым способом, используя одну и ту же стратегию, — они отказались от сырьевых товаров и убывающей отдачи ради обрабатывающей промышленности и возрастающей отдачи.
История открывает нам, как богатые страны богатели при помощи методов, которые сегодня практически полностью запрещены условиями Вашингтонского консенсуса. Разработанный в 1990 году, сразу после падения Берлинской стены, Вашингтонский консенсус потребовал среди прочего либерализации торговли, прямых иностранных инвестиций, дерегулирования и приватизации. По мере внедрения реформы Вашингтонского консенсуса стали практически синонимом неолиберализма и рыночного фундаментализма.
Оксфордский словарь английского языка определяет слово emulation как «попытку сравниться с другими или превзойти их в каком-либо достижении или качестве; желание или стремление сравняться или превзойти».
Европейцы рано заметили, что всеобщее богатство встречается только там, где сельского хозяйства либо нет, либо оно играет небольшую роль. Богатство стало считаться непреднамеренным, побочным продуктом концентрации в больших городах разнообразных отраслей обрабатывающей промышленности. Как только эта схема была осознана, при помощи мудрой экономической политики богатство стало возможно распространять и за пределы нескольких естественно богатых областей. Политика эмуляции в самом деле могла распространять богатство на бедные и феодальные сельскохозяйственные земли, но для этого требовалось существенное вмешательство в работу рынка. Это обстоятельство, а также мудрая экономическая политика смогли заменить природные и географические преимущества, с которых началось процветание первых богатых государств. Далее мы можем представить, что налоги на экспорт сырья и на импорт готовой продукции должны были поднять доходы бедных стран, но их побочным продуктом стало увеличение богатства через увеличение национальных производственных мощностей.
II. ЭВОЛЮЦИЯ ДВУХ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ
Сегодня чикагские экономисты, чтобы теоретически обосновать глобализацию и политику мировых финансовых организаций, вещают миру: государство и муниципальные правительства не должны вмешиваться в экономику. В реальности мэр Чикаго тратит миллионы долларов общественных фондов на создание инкубаторов для наукоемких производств. Даже в пределах одного города разрыв между теорией и практикой огромен. В Вашингтоне Администрация по делам малого бизнеса в США ежегодно тратит 20 млрд долл. на займы и гарантии в поддержку частных компаний Соединенных Штатов. Расположенные в нескольких кварталах от здания Администрации финансовые организации Всемирный банк и МВФ продолжают навязывать бедным странам условия, не позволяющие учредить у себя аналогичные институты.
Получается, что реально благородная экономическая риторика годится только на экспорт, а для «внутреннего пользования» берутся совсем другие, прагматические, принципы. Джордж Буш проповедовал свободную торговлю ради всеобщего блага. В реальности Соединенные Штаты субсидируют и защищают множество своих отраслей, от сельского хозяйства до высоких технологий. В этом Соединенные Штаты следуют примеру Англии. В 1820-е годы один из членов палаты представителей сказал, что теории Давида Рикардо, как и многие другие английские продукты, были, похоже, созданы исключительно «на экспорт». Поэтому американский афоризм 1820-х годов «Следуй не совету англичан, но их примеру» сегодня может прозвучать так: «Следуй не совету американцев, но их примеру».
Все страны, которые сегодня богаты, обязательно проходили через период защиты национальной обрабатывающей промышленности. Функцию этого периода подчеркивает термин «воспитательные тарифы» (нем. Erziehungszoll), существующий в германских языках. В английском языке раньше существовал термин «infant industry protection» (букв.: «защита младенческих отраслей промышленности»), так что из одного названия было понятно, что это необходимая мера. Сравнивать страны, которые прошли эту стадию, со странами, которые ее не проходили, бессмысленно. Следуя скорее примеру Англии, чем ее советам, Соединенные Штаты защищали свою обрабатывающую промышленность 150 лет.
Экономическая наука, основанная на опыте, опирается в основном на биологические метафоры, куда менее точные, чем метафоры из физики, и не дающие таких же четких ответов на злободневные вопросы. Теории, основанные на опыте, предлагают компромиссные решения. В теориях же, основанных на физических моделях, которые поощряют использование одной и той же экономической политики в любом контексте, компромиссных решений почти не бывает.
Тот, кто забывает, что основанные на физике модели являются не реальностью, но исключительно упрощенными моделями этой реальности, рискует наделать много ошибок. Пример такой ошибки — это метод, каким была введена глобализация, — шоковой терапией. Вместо того чтобы привести к выравниванию цен на производственные факторы, во многих странах она спровоцировала их поляризацию по отношению к остальному миру. Богатые страны, таким образом, продолжают богатеть, а многие бедные — беднеть.
Альтернативную экономическую науку, основанную на опыте, методологию, которую до сих пор использует Гарвардская школа бизнеса, мы будем в дальнейшем называть Другим каноном. Он объединяет экономические подходы и теории, которые исходят в своих рассуждениях об экономике из фактов и опыта. Экономическая наука, основанная на опыте, правила в мире на протяжении долгих веков. Сегодняшней абстрактной стандартной теории еще нет и 250 лет.
Чарльз Бэббидж (1791–1871), более известный своим вкладом в разработку компьютера, в истинно Бэконовом духе отправился на фабрику булавок и собрал там данные о зарплатах. Оказалось, что работник, покрывающий булавки оловом, получал 6 шиллингов в день, а работники, выпрямляющие проволоку, — только 1 шиллинг. Возрастающая отдача и специализация помогают нам понять, почему экономический рост так неравномерен. Опасность глобализации в том, что производственные цепи могут оказаться разорваны так, что богатым странам достанутся все квалифицированные виды работ, т. е. покрывать булавки оловом, а бедным странам останется только выпрямлять проволоку. Бедные страны, как правило, специализируются на видах экономической деятельности, которые богатые страны не могут механизировать или рационализировать.
К сожалению, когда от Маркса потребовалось решение проблем капитализма, он обратился к трудовой теории ценности Рикардо. В немецкой традиции было принято рассматривать в качестве движущих сил экономики знания, новые идеи и технологии, так что теория Рикардо была для нее чуждым элементом. Выбор Маркса имел очень серьезные и долгосрочные последствия: он позволил абстрактному мышлению Рикардо воцариться по всей политической оси, от правого до левого фланга, на протяжении холодной войны и после ее окончания. Осознав это в 1955 году, Николас Калдор (1908–1986) писал, что «Марксова теория — это на самом деле упрощенная и переодетая версия Рикардо».
Получается, что коммунизм и либерализм — это если не родные, то двоюродные братья, два абстрактных теоретических учения, витающих над тривиальными фактами реального мира. В обеих теориях не хватает того, что мы называем капиталом человеческого духа и воли (нем. Geist- und Willens-Kapital) — новых знаний, инноваций, предпринимательства, лидерства и организационных способностей. Поскольку процесс производства свелся к применению одинаковых трудовых часов, мировую экономику можно свести к покупке и продаже уже произведенных товаров. Аналогичным образом человеческая деятельность свелась к поставке идентичных трудовых часов, лишенных каких бы то ни было качеств, и к потребительской деятельности. Рассуждая таким образом, коммунисты решили, что можно заменить рынок с его спросом и предложением огромным калькулятором и что результат при этом не изменится.
Первая волна популярности Рикардовой экономической теории достигла пика в середине 1840-х годов. Общественные проблемы, которые во всех странах, кроме Англии и России, с 1848 по 1871 год обернулись революциями, показали, что без продуманной политики рынок не способен создать экономическую гармонию. К 1890-м годам стало ясно, что абстрактная система Рикардо, в которой ни одна предпосылка, за исключением уменьшающейся отдачи, не отражала реальности, лежала в основе всех пороков правого и левого политических флангов.
После Второй мировой войны повальная математизация общественных наук в сочетании с холодной войной вернули Рикардо его былую популярность. Рынок вновь, как в 1840-е годы, стали считать механизмом по созданию автоматической гармонии, а революции, зародившиеся в 1840-е годы, объяснять социальным неравенством внутри стран. Сегодня мы вновь стоим перед проблемой неравенства, с той разницей, что теперь неравны в большей степени страны, а не граждане одной страны.
Два разных типа теории, которые мы обсуждаем, по-разному понимают глобализацию. Настолько по-разному, что два нобелевских лауреата в области экономики выдвинули конфликтующие версии того, что случится с мировым доходом при глобализации.
Один из лауреатов — Пол Самуэльсон, сторонник теории первого типа, т.е. основанной на стандартных предпосылках неоклассической экономической науки. Он математически доказал, что международная торговля без ограничений приведет к выравниванию цен на производственные факторы, что по сути означает, что цены на факторы производства — капитал и труд — будут стремиться к одинаковому уровню во всем мире. Другой лауреат — шведский экономист Гуннар Мюрдаль, сторонник теории второго типа, которую мы для удобства решили называть Другим каноном. Он считал, что мировая торговля только усугубит уже существующие различия между доходами в бедных и богатых странах.
Экономическая политика Вашингтонского консенсуса (а значит, политика Всемирного банка и МВФ) основана на теории первого типа, той, в которую верил Пол Самуэльсон. Экономическое развитие, происходившее в 1990-е годы, жестко противоречит идеям Самуэльсона, но зато подтверждает предположение Мюрдаля: богатые страны стремятся объединиться в сообщество, а бедные страны стремятся к бедности; разрыв между этими группами растет. Теория Пола Самуэльсона объясняет процессы, происходящие внутри группы богатых стран, а теория Гуннара Мюрдаля объясняет развитие относительного богатства между группами богатых и бедных стран. Теория Самуэльсона не может повредить странам, в которых установилось сравнительное преимущество в виде возрастающей отдачи, но чрезвычайно вредит странам, которые не прошли ступени осознанной индустриализации.
Теория, которой придерживается Самуэльсон, покрывает только общие контуры мирового развития и может до определенной степени успешно предсказать развитие внутри каждой группы стран. Богатые страны стремятся к более однородному богатству, а бедные — к более однородной бедности. Однако стран, находящихся между двумя группами, в этой теории нет, зато конвергентные группы богатых и бедных выделяются отдельными скоплениями на диаграмме рассеивания данных (как и предсказывал Мюрдаль).
Стандартная экономическая наука предлагает вывод: глобализация одинаково выгодна для всех стран, даже тех, которые по уровню знания застряли в каменном веке. Эта теория понимает развитие как накопление капитала, вместо того чтобы понимать его как эмуляцию и накопление знаний.
Различия между двумя экономическими теориями глубоки, а происходят они из противоположного понимания качеств человека и основного вида его деятельности. Два разных взгляда на природу человека, а значит, на экономическую науку, можно найти у Адама Смита и Авраама Линкольна.
Теория обмена была заложена на страницах «Богатства народов» Адама Смита. «Разделение труда — это последствие определенной склонности человеческой природы… к мене, торговле, к обмену одного предмета на другой… Эта склонность обща всем людям и, с другой стороны, не наблюдается ни у какого другого вида животных, которым, по-видимому, данный вид соглашений, как и все другие, совершенно неизве стен… Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой».
Линкольн описал свою теорию производства и инноваций в предвыборной речи 1860 года. «Бобры строят хатки; однако они строят их сегодня точно такими же, как и пять тысяч лет назад, ничуть не лучше… Человек не единственное животное, которое трудится, но только человек совершенствует свое мастерство. А совершенствует он его благодаря открытиям и изобретениям». Адам Смит, надо сказать, тоже пишет об изобретениях, но, в его понимании, они зарождаются где-то вне экономической системы, считаются бесплатными (совершенная информация) и одновременно приходящими в головы всех сообществ и всех людей. У Смита инновации и новые технологии создаются автоматически и бесплатно, невидимой рукой, которую нынешняя экономическая идеология именует рынком.
В английской традиции человеческий мозг принято считать пассивной tabularasa; этот мозг обитает в некой машине по исчислению ощущений удовольствия и боли, которая стремится избежать боли и получить удовольствие. Такой взгляд ведет к гедонистической и основанной на обмене экономической науке с соответствующей системой ценностей и стимулов. Экономический рост в ней понимается как механическое сложение капитала с трудом. Континентальная же традиция считает, что сущность человека — это его потенциально благородный дух и активный мозг, который постоянно регистрирует и классифицирует окружающий мир. В этом случае экономическая наука строится вокруг производства, а не обмена, а также вокруг производства знаний и инноваций, их ассимиляции и распространения. Движущая сила в континентальном типе экономической науки не капитал как таковой, но дух и воля человека, тот самый Geist- und Willens-Kapital, о котором писал Ницше.
Этическое обоснование колониализма — идею, что у колонизаторов есть моральное право не давать другим странам развиваться выше уровня производителей сырья, мы впервые встречаем в экономической теории Рикардо. До него экономисты сходились во мнении, что колонизаторы сознательно держат колонии в бедности. Английские экономисты иногда оправдывались, что «если все это делают, то и мы вынуждены поступать так же». Немецкий экономист XVIII века Иоганн Генрих Готтлоб фон Юсти считал, что колонии скоро осознают, что их обманывают, и поднимут бунт, чтобы иметь возможность построить собственную промышленность. В случае с Америкой, которая взбунтовалась и освободилась от власти Англии в 1776 году, он оказался прав.
Сегодня мы наблюдаем новую волну глобализации, и она не слишком отличается от старой: то же виденье, основанное на работах тех же экономистов (Смита и Риккардо), сбалансированного мира с естественным разделением труда, при котором некоторые страны должны экспортировать сырье и импортировать промышленные товары, а также на сей раз продвинутые услуги. Промышленный строй бедных стран становится все ближе к строю колоний; те же теории, которые когда-то породили колониализм, теперь порождают неоколониализм.
В «Целях тысячелетия», преемнике проекта «десятилетий развития», задача развивать страны третьего мира уже не звучит; вместо нее появилась задача облегчить худшие симптомы бедности при помощи поставок бесплатных лекарств, москитных сеток и питьевой воды. Так же как раковым больным назначают паллиативное лечение, направленное на облегчение боли, а не на борьбу с самой болезнью, бедным странам назначена «паллиативная экономика» вместо экономики развития.
Зачатки теории стадий экономического роста существовали еще в Античности — как в Риме, так и в Греции. Фрэнсис Бэкон в книге «Новый Органон» (1620 г.) иначе объясняет поразительные различия, существующие между условиями жизни в разных частях света. Он утверждает, что «эта разница происходит не от почвы, не от климата, не от телосложения, а от наук». Во времена Просвещения традицию Бэкона продолжил историк Уильям Робертсон. «Отвечая на любой вопрос касательно деятельности людей, объединенных в общество, нужно прежде всего обратить внимание на способ, которым они обеспечивают себе средства к существованию. В зависимости от этого способа будут меняться и законы, и политика этих людей». Таким образом, раньше способ производства считался фактором, определяющим институты человеческого общества, а не наоборот. Сегодня же новая институциональная экономическая наука, основанная на стандартной теории из учебника по экономике, меняет причину и следствие местами, говоря, что в бедности виновата нехватка институтов, а не отсталый способ производства.
Согласно теории Тюрго и Смита, появившейся в годы первой индустриальной революции, история развития человечества делится на 5 стадий: охотники и собиратели, пастухи одомашненных животных, крестьяне и, наконец, торговцы. Однако в XIX веке немецкие и американские экономисты решили, что стадии развития надо понимать совсем по-другому. Они считали, что раз все прежние стадии развития основывались на способе производства продуктов, то будет грубейшей ошибкой классифицировать следующую стадию по какому-то иному признаку. Это разногласие в XIX веке переросло в конфликт, в который вступили экономическая практика Германии и Америки с экономической теорией Англии. С конца XVIII века классические экономисты-англичане занимались анализом именно последней стадии эволюции, торговли (в частности, анализом предложения, спроса и цен), но только не производства. Немцы же и американцы называли эту стадию веком промышленности.
III. ЭМУЛЯЦИЯ: КАК РАЗБОГАТЕЛИ БОГАТЫЕ СТРАНЫ
С незапамятных времен обитатели Земли в большинстве своем жили простой жизнью, в относительной бедности, с трудом выдерживая баланс между размером населения и доступными природными ресурсами. В таком мире богатство и бедность были «игрой с нулевой суммой»; чтобы стать богатым, нужно было присвоить чужое, уже существующее богатство.
Люди очень рано поняли, что богатство чаще всего встречается в городах (точнее, в определенных городах). В городах жили свободные люди; в деревнях — серфы, навсегда прикрепленные к земле и к местному лорду. Люди начали задумываться, почему города настолько богаче, чем деревни. Постепенно они пришли к тому, что богатство городов — это результат синергии: люди разных ремесел и профессий живут вместе в одном сообществе. Флорентийский ученый и государственный деятель Брунетто Латини (ок. 1220–1294) описал эту ситуацию как il ben commune, или «общее благо». В эпоху, когда богатство понималось всеми исключительно как коллективное явление, Возрождение вернуло былую значимость личности человека и его созидательному потенциалу. Необходимо учитывать оба фактора — общее благо и роль личности, чтобы понять взгляд на общество, а также явление экономического роста. Антонио Серра в 1613 году сформулировал рецепт богатства страны так: богатство состоит из растущей отдачи и максимального разделения труда, т. е. из увеличения количества профессий и видов деятельности.
В условиях падающих издержек при росте производства, т. е. в условиях растущей отдачи или экономии на масштабах производства, большое население уже не казалось экономистам XVII века проблемой. Напротив, для экономии на масштабе, с ее разделением труда и многочисленными новыми ремеслами, большое население стало важным условием экономического роста. Более того, для роста богатства было необходимо не просто увеличивающееся население, но и его концентрация.
И только в 1798 году, когда Томас Мальтус (1766–1834) вернул к жизни экономическую науку, основанную на убывающей отдаче от сельского хозяйства (а не на инновациях и экономии на масштабе в обрабатывающей промышленности), рост населения, как в Книге Бытия, снова начал считаться проблемой. Когда Мальтус и его друг Рикардо вернули убывающей отдаче центральную позицию в экономической науке, одновременно упразднив растущую отдачу и инновации, последствия оказались трагическими: было потеряно прежнее понимание богатства как совместного продукта синергии, возрастающей отдачи и инноваций.
Постепенно стало очевидным то, что человек на Земле — это не просто садовник и подсобный рабочий при созданном Богом мире. Бог создавал мир 6 дней, а оставшуюся созидательную работу оставил человечеству. Следовательно, создавать и внедрять инновации — это наша приятная обязанность. Наша обязанность — населить Землю; как и в случае размножения, Бог предусмотрел для человека стимул к инновациям в виде радости от новых открытий.
От внимания ранних экономистов не ускользнуло то, что «островки богатства» в Европе часто были расположены именно на островах. Парадоксальным образом получалось, что богатство страны обратно пропорционально ее богатству природными ресурсами. Самые богатые области, такие как Голландия и Венеция, почти не имели земель, пригодных для обработки. Из-за этого население было вынуждено специализироваться на промышленном производстве и международной торговле.
Экономическая власть и покровительство способствовали тому, что в нефеодальных сообществах процветали ремесла. Эта важнейшая связь между политическим и экономическим строем, между демократией и экономикой, диверсифицированной до состояния независимости от сельского хозяйства и сырьевых товаров, сегодня утрачена. Вместо того чтобы делать выводы из исторических примеров, мы затрачиваем невероятные усилия и огромные средства, чтобы установить демократию в странах, где экономический строй находится на феодальном, докапиталистическом уровне.
Венеция и Голландия контролировали важные сырьевые рынки (Венеция — соли, а Голландия — рыбы). В Голландии же в начале XIV века была изобретена соленая и маринованная сельдь и был создан ее большой рынок, контролируемый, естественно, Голландией. Кроме того, Венеция и Голландия наладили крайне выгодную международную торговлю. Таким образом, первое богатство в Европе было основано на тройной ренте — тройной рыночной власти в таких видах экономической деятельности, которые явно отсутствовали в бедных европейских странах. Это были промышленное производство, почти полная монополия в одном виде важного сырья, а также прибыльная международная торговля. Созданное богатство сохранялось при помощи высоких входных барьеров, а именно при помощи знаний, разнообразия промышленного производства, систематически создающего эффект синергии, при помощи рыночной власти, издержек, сниженных за счет инноваций и растущей отдачи, при помощи самого масштаба деятельности, а также при помощи экономии на масштабах в использовании военной силы.
Англия выстроила собственную систему тройной ренты в промышленном производстве, внешней торговле и производстве сырья (шерсти). Успех Англии постепенно привел к закату городов-государств и к росту национальных государств: синергия городов-государств распространилась на большие территории.
Первая в истории человечества масштабная промышленная политика использовала вывод о том, что именно сделало богатые области Европы богатыми, — идею, что технологическое развитие всего в одной сфере в пределах одной географической области может сделать богатым целую страну. Король Англии Генрих VII, взошедший на трон в 1485 году, вырос в Бургундии. Там он обратил внимание, как богата область, занимавшаяся производством шерстяной ткани. И шерсть, и химикат для ее очищения (фуллерова земля, или силикат алюминия) импортировались из Англии. Когда Генрих вступил во власть своим неимущим королевством, где производство шерсти было на несколько лет вперед заложено итальянским банкирам, он вспомнил свое детство на континенте. В Бургундии хорошо жили не только производители тканей, но и пекари, прочие ремесленники. Король понял, что Англия занимается не тем, чем надо, и решил сделать из нее производителя тканей, а не экспортера сырья.
Генрих VII разработал обширный инструментарий экономической политики. Первым и главным инструментом стали налоги на экспорт, благодаря которым зарубежным производителям тканей немытая шерсть доставалась дороже, чем английским. Кроме того, начинающие производители шерстяной ткани на время освобождались от налогов, а также на ограниченный срок получали монополию на торговлю в определенных географических областях. Для того чтобы привлечь ремесленников и предпринимателей из других стран, особенно из Голландии и Италии, также применялась особая политика. По мере роста английской шерстяной промышленности росли и налоги на экспорт, пока у Англии не появилось достаточно производственных мощностей для того, чтобы обрабатывать всю производимую в стране шерсть. 100 лет спустя Елизавета I смогла ввести эмбарго на экспорт необработанной шерсти из Англии. Используя те же методы, что Венеция и Голландия до нее, Англия достигла такой же ситуации тройной ренты, как и они; она использовала сильный промышленный сектор, монополию на один вид сырья (шерсть) и международную торговлю.
Главными конкурентами англичан на сырьевом рынке были испанские производители шерсти. В 1695 году английский экономист Джон Кэри предложил Англии скупить всю испанскую шерсть, чтобы сжечь ее. У Англии не хватило бы мощности для обработки всей испанской шерсти, но, удалив сырье с рынка, она усилила бы свою рыночную власть. Торговая война была сражением за возможность заниматься деятельностью, приносящей наибольшую прибыль, наибольшие зарплаты и/или наибольшую налоговую отдачу. Всем участникам было понятно, что стратегическая торговая политика — это по сути альтернативный способ ведения войны.
Разбогатевшие страны могли позволить себе иную политику, чем бедные страны. Как только страна оказывалась в достаточной степени индустриализованной, те же факторы, которые раньше требовали защиты (достижение растущей доходности и развитие новых технологий), начинали требовать для роста и процветания больших международных рынков. Мы видим, что успешная политика протекционизма несет в себе зерно своего же уничтожения: в случае успеха защита, которая изначально была столь необходима промышленности, начинает мешать ее производительности.
В истории Европы с 1500-х годов можно найти примеры экономической политики, которой нельзя следовать. После открытия Америки в Испанию рекой хлынули потоки золота и серебра. Однако это богатство не было инвестировано в производство, а привело к деиндустриализации страны. Произошло это так: землевладельцы наживались на потоке золота из Америки благодаря монополии на экспорт вина и оливкового масла на растущие рынки Нового Света. Производство масла и вина — крайне негибкие виды экономической деятельности, для которых характерна скорее убывающая, чем возрастающая отдача. Для того чтобы увеличить производство (в частности, чтобы новые оливковые деревья начали плодоносить так же активно, как старые), требуется время. Такое расширение производства приводит к отдаче не возрастающей, а убывающей, из-за которой затраты на производство единицы товара увеличиваются, а не уменьшаются. Поэтому результатом возросшего спроса стал резкий скачок цен на сельскохозяйственные продукты. Знатные землевладельцы были освобождены практически ото всех налогов, так что налоговое бремя легло на плечи ремесленников и промышленников. Рост цен на сельскохозяйственные товары в Испании и без того пошатнул конкурентоспособность испанских промышленников и ремесленников, так что синергия и разделение труда в стране отсутствовали. Произошла деиндустриализация, оправиться от которой Испании удалось только в XIX веке.
В 1558 году министр финансов Испании Луис Ортис так описал текущую ситуацию в меморандуме королю Филиппу II: «Из сырьевых материалов Испании и Вест-Индии, в частности, шелка, железа и кочиниллы (красной краски), которые они покупают всего за один флорин, иностранцы производят готовые товары, которые затем продают назад, в Испанию, по цене от десяти до ста флоринов. Таким образом, Испания подвергается со стороны остальной Европы еще большим унижениям, чем те унижения, которым мы сами подвергаем индейцев. В обмен на золото и серебро испанцы предлагают индейцам безделушки большей или меньшей ценности; но выкупая свои собственные сырьевые товары у иностранцев по заоблачной цене, испанцы становятся посмешищем всей Европы».
Основная идея меморандума Ортиса — готовый продукт может стоить в десять или даже сто раз дороже, чем необходимое для его производства сырье — веками звучала в европейской экономической литературе. Между сырьем и готовым продуктом находится мультипликатор — производственный процесс, который требует знаний, механизации, технологий, разделения труда, возрастающей отдачи и одновременно сам создает их. Но главное, что создается в ходе производственного процесса, — это рабочие места для безработных, которых в бедных странах всегда великое множество.
Мультипликатор обрабатывающей промышленности был ключом одновременно к прогрессу и к политической свободе. Вот почему с конца XV века до окончания Второй мировой войны лейтмотивом экономической политики (хотя и не всегда экономической науки) был культ обрабатывающей промышленности. В рамках этого культа велись разговоры о «насаждении» промышленности в странах примерно так, как насаждаются полезные растения из дальних стран. В конце 1400-х годов появились два института, служащих одной цели, — патенты, защищавшие новые знания, и тарифная защита, позволявшая передавать это знание в новые географические области. Оба института основаны на одной экономической идее: новое знание должно создаваться и распространяться по миру, побуждаемое несовершенной конкуренцией. Необходимой частью этого процесса стали институты, которые «портили» цены, которые установил бы свободный рынок, — патенты создавали временную монополию на новые изобретения, а тарифы, искажавшие цены на промышленные товары, позволяли новым технологиям и производствам укорениться вдали от тех стран, где они были изобретены.
Изобретения и инновации никогда не могли быть воссозданы на свободных рынках без вмешательства государства. Сегодня экономическая политика и мировые финансовые организации защищают только патенты — постоянный источник растущего дохода для очень немногих и очень богатых стран. Однако эти же организации с пеной у рта запрещают применять инструменты, которые позволяют распространять несовершенную конкуренцию в форме новых производств в других странах. Защита несовершенной конкуренции считается нормальной в богатых странах, но только не в бедных.
В начале 1700-х годов в экономической практике двусторонней торговли появилось железное правило, которое быстро распространилось в Европе. Если страна экспортирует сырьевые товары и импортирует промышленные, то она ведет невыгодную торговлю, если страна импортирует сырьевые товары и экспортирует промышленные, то выгодную. Интересно, что если страна экспортировала промышленные товары в обмен на другие промышленные товары, торговля считалась выгодной для обеих сторон.
Вот почему главные сторонники индустриализации и тарифной защиты, такие как Фридрих Лист, были и главными сторонниками свободной торговли и глобализации, но только после того как все страны будут в достаточной степени индустриализованы. Еще в 1840-е годы Фридрих Лист разработал рецепт «правильной глобализации»: свободная торговля должна вводиться после того, как все страны мира будут индустриализованы; только тогда она будет выгодна всем странам без исключения.
Франция и другие страны взяли на вооружение стратегию, которую Тюдоры с таким успехом использовали в Англии. Помимо прочего эта стратегия способствовала созданию национальных государств: отдельные маленькие города-государства безвозвратно канули в прошлое, вместо них появились государства, которым удалось укрепить «общее благо» и распространить его на географические области с обширными рынками. Во Франции знаменитый государственный деятель Жан-Батист Кольбер (1619–1683) развил промышленность и инфраструктуру такого масштаба, что они объединили всю страну. Его целью было объединить страну, создав в ней совершенную конкуренцию, и защищать возрастающую отдачу и трудоемкую промышленность от иностранных конкурентов. В XVIII веке в Европе Кольбера называли не иначе как «великий Кольбер».
Вспомним теперь, что происходило в этот момент в Германии, самой отстающей европейской стране того времени. Основателем немецкой экономической науки был Фейт Людвиг фон Зекендорф (1626–1692). Он жил во времена войны и разрухи.
Тридцатилетняя война (1618–1648) уничтожила 70 % гражданского населения. Начиналась эта война как внутренний конфликт на религиозной почве, но постепенно в нее оказались вовлечены многие страны Европы, такие как Испания, Франция, Дания и Швеция. Победителей в Тридцатилетней войне не было, но многие немцы поняли, что проиграла цивилизация в целом.
Одним из результатов Вестфальского мира (1648 г.), который положил конец Тридцатилетней войне, стал раздел Германии на 300 малых штатов. Эти подробности я привожу здесь потому, что считаю, что странам, которые сегодня терпят неудачу, полезно вспомнить, как Германия сумела выбраться из глубочайшего послевоенного кризиса. Германию спасла производственная стратегия, сознательное развитие торговли и промышленности, отделенных от сельского хозяйства и производства сырьевых материалов. Чтобы преуспеть, Германия решила эмулировать экономический строй страны, в которой царили мир и достаток; в качестве примера для подражания была выбрана Голландия.
В 1656 году, в возрасте 30 лет, Зекендорф издал свой главный труд «Der Teutscher Fürstenstaat» («Германское княжество»). В нем дал подробное описание страны и дополнил это описание учебником по управлению страной для королей и принцев. Книга Зекендорфа оставалась в печати следующие 98 лет, что для учебника очень серьезный срок. Несколько лет спустя Зекендорф отправился с герцогом Эрнстом Саксен-Готским, известным как Эрнст Благочестивый (у которого он работал библиотекарем), в поездку по Голландии. Он был потрясен изобилием, миром, свободой и толерантностью, которые увидел в Голландии. Вернувшись в Германию, Зекендорф решил дополнить свои советы немецким принцам еще одной частью, «Additiones» (дополнения), которая вышла в 1664 году. То, что он увидел в Голландии, подтвердило теорию, которую он сформулировал еще в библиотеке Готы, — города и промышленность играют важнейшую роль в создании богатства.
Герцог Эрнст с готовностью вкладывал деньги в инфраструктуру своих земель и даже предпринял попытку сделать реки княжества такими же судоходными, как голландские каналы. Эрнст упразднил налоги и пошлины, дал людям свободу перемещения. Можно сказать, что он положил начало государству всеобщего благосостояния, первым внедрив ответственность штата за старых и больных. Что же поразило Зекендорфа вместе с другими экономистами его времени в Голландии? Нам довольно много известно о том, как были устроены промышленность и торговля в голландском городе Дельфте. Мы не знаем, был ли там Зекендорф, можно взять этот город в качестве примера.
Опыт Дельфта, с его изготовителями микроскопов, которые превратились в ученых, подтверждает и мнение норвежско-американского экономиста Торстена Веблена о том, что праздное любопытство, свободное от мотива получения прибыли, также является движущей силой капитализма. В центре производственного кластера Дельфта находились производители увеличительных стекол, использовавшихся для контроля тканей в текстильном производстве. Великий дельфтский производитель микроскопов и ученый Антони ван Левенгук (1632–1723) создал синергию, объединив текстильную промышленность, производство микроскопов и естественные науки вокруг изготовления стеклянных линз.
Кроме биноклей и телескопов флоту нужны были карты. В Италии карты традиционно выполняли в технике гравюры по дереву, голландцы начали производить гравюры на меди. И медь, и латунь применялись в производстве биноклей для флота и микроскопов для ученых, так что появилась дополнительная связь между наукой, искусством и флотом.
Знание, разработанное в одной области, неожиданно переходило в другие, не связанные с первой, доказывая, что новое знание создается путем соединения фактов или событий, которые раньше считались несвязанными. Диверсифицированность стала ключевой составляющей экономического роста, а в сельскохозяйственных сообществах, где люди производили одни и те же продукты, этой диверсифицированности не было.
Немцы понимали, что не смогут эмулировать демократичную политическую систему Нидерландов или Венеции. Было очевидно, что экономический строй государства неразрывно связан с его политическим строем[114]. Однако Германии надо было как-то жить со своими правителями. Чтобы страна могла развиваться, надо было убедить их изменить экономическую политику и ждать, что со временем форма правления сама собой станет более демократичной.
Зекендорф был первым экономистом и политологом, пытавшимся внушить европейским правителям, что они унаследовали не только право властвовать над людьми, но и обязанность их развивать. В обществе культивировали понимание того, что чем лучше правитель, тем богаче народ. Вместо того чтобы оценивать свой успех по величине собственного богатства, правитель измерял его материальным достатком своего народа.
Закончив аспирантуру, я начал работать на американскую консультационную фирму «Телесис». Мы должны были оценить промышленную политику, которую вела Ирландия после Второй мировой войны, и составить рекомендации на будущее; докладывать о результатах мы должны были непосредственно премьер-министру.
Ирландия вошла в Европейское экономическое сообщество в 1973 году, и в ее сельскохозяйственный сектор тут же потекли деньги. Однако это привело только к переизбытку мощностей и к тому, что крестьяне оказались по уши в долгах и на чрезвычайно сложном рынке. Я помню, что на встрече с нами Хоги сказал: «Скоро появятся новые технологии, и я хочу, чтобы вы помогли Ирландии стать в этих технологиях лучшей». Хоги говорил об информационных технологиях. Он хотел, чтобы Ирландия эмулировала богатые страны, догнала их и вырвалась вперед. Я был единственным экономистом в ирландской команде. В итоге мы разработали практические рекомендации на основании бизнес-анализа.
Хоги принадлежит заслуга чрезвычайно успешной трансформации экономики Ирландии, которая стала возможна благодаря тому, что она рано вошла в сектор информационных технологий. Довольно быстро уровень реальной зарплаты в Ирландии стал выше, чем в Англии, ее бывшей колониальной хозяйке. Идеи Хоги и его лидерство сыграли в Ирландии ту же роль, какую играли в Европе XVIII века просвещенные деспоты. В 1699 году Ирландии запретили эмулировать Англию; в 1980 она отомстила, освоив то, чему суждено было стать ведущей мировой технологией на несколько десятилетий вперед, — информационные технологии.
IV. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: АРГУМЕНТЫ «ЗА», ОНИ ЖЕ «ПРОТИВ»
Лучшие аргументы как в пользу глобализации, так и против нее, лежат в области производства. Производство товаров и услуг часто происходит в условиях существенной возрастающей отдачи от масштаба производства (экономии на масштабах производства): чем больше рынок и чем больше товаров и услуг мы потребляем, тем дешевле обходится производство единицы этих товаров и услуг. В этом явлении содержится огромный потенциал, способный увеличить благосостояние всего человечества.
Другой мощный аргумент в защиту свободной торговли — это технологический прогресс и инновации, продукты новых знаний. На большем рынке издержки по производству инноваций и по техническому прогрессу распределяются между большим количеством потребителей, так что инновации и технические улучшения способны достичь каждого отдельного гражданина мира быстрее и дешевле. Чем больше рынок, тем больше он может породить инноваций. Если бы Томас Эдисон и Билл Гейтс работали на маленьких рынках (например, в Исландии, где меньше 300 тыс. жителей), эта книга, вероятно, печаталась бы на машинке и при свете керосиновой лампы.
Третий аргумент — это синергия и кластерные эффекты. Новые знания не только растут, как грибы после дождя, там, где несколько компаний, не обязательно конкурирующих друг с другом, работают в едином комплексе; как мы видели на примере Нидерландов, мощная синергия рождается также между компаниями, работающими в разных сферах. Один из важнейших случаев синергии в истории человечества — между обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством. При глобальной экономике каждая страна могла бы развить собственные кластеры (их также называют блоками развития и полюсами роста), в которых компании росли и процветали так, как не могли бы расти и процветать по отдельности. Опять же, чем больший рынок складывается в результате экономической интеграции, тем он обеспечит большее разделение труда, специализацию и большие знания. Эти факторы — масштаб, технический прогресс и синергия — работают вместе, в тесной связи друг с другом, усиливая друг друга.
Университеты — также важная часть новаторских систем. Учебные процессы, происходящие там, где инновации, растущая отдача и синергический /кластерный эффект встречаются и работают вместе, составляют суть экономического развития, которое сделало обширные части мира богатыми и благополучными. Сегодня эта идея нашла выражение в понятии тройной спирали, т. е. связи между промышленностью, государством и университетским сектором.
Ближе к концу XIX века американские и немецкие экономисты описали историю человечества как процесс развития в сторону укрупнения экономических единиц. Вначале люди жили в семейных кланах, основой которых была взаимопомощь. Распределение доходов в клане происходило примерно так же, как распределяется содержимое холодильника в современной семье — соответственно аппетиту каждого. Когда один из членов клана женился и ему нужен был новый дом, все работали бесплатно. Каждый знал, что когда наступит его черед прибегнуть к помощи, все будут бесплатно работать на него. В группе людей, живущих вместе всю жизнь, такая взаимность обеспечивала удовлетворительное распределение доходов и без рынка. В этих условиях идея рыночных сделок была бы так же чужда людям, как нас сегодня удивила бы молодая мать, продающая молоко собственному младенцу.
Торговля между разными населенными пунктами и укрепление деревень привели к тому, что в человеческом обществе появились города-государства, а с ними и качественные изменения в образе жизни. Большие расстояния, растущая профессиональная специализация (разделение труда) и большая географическая мобильность — все это привело к распаду старой системы взаимной помощи. Появились рынки — вначале, вероятно, как места, где члены племен обменивались подарками, затем как механизмы обмена с установленными натуральными соотношениями («одна овца за один мешок картошки»), а затем и в виде денежного эквивалента. Экономические антропологи подчеркивают, что торговля возникла вначале не между отдельными людьми, но между кланами и племенами.
Следующей ступенью стало появление национальных государств. Основатели стремились к тому, чтобы распространить эффект синергии, который они наблюдали в городах, на большие географические области. Ключевыми объектами инвестиций при создании национальных государств были элементы инфраструктуры — дороги, каналы, порты, а позднее железные дороги и телефонные линии. Совместный экономико-политический проект по созданию национальных государств назывался меркантилизмом. Национальные государства развивались, а некогда успешные города-государства, такие как Венеция или Дельфт, постепенно отставали от них и приходили в упадок; в них воцарялась бедность — как относительная, так и абсолютная.
Гораздо позже — всего около 100 лет назад — экономистам, изучавшим историческую связь между технологиями и географией, стало понятно, что следующей ступенью технико-экономического развития станет глобальная экономика. Как и в предыдущие переходные периоды, заметили экономисты, финансовый сектор первым начнет оперировать в крупных географических единицах.
Не все продукты и услуги при увеличении объема производства приводят к возрастающей отдаче. Производство первого диска с новой программой от «Microsoft» может обойтись в 100 млн долл.; производство второго или стотысячного диска может стоить всего несколько центов. Страны, поставляющие сырье другим странам, рано или поздно окажутся в ситуации, когда отдача от их деятельности станет убывающей. Закон убывающей отдачи гласит, что если один производственный фактор имеет природное происхождение (как в сельском хозяйстве, рыболовстве или добыче полезных ископаемых), то рано или поздно увеличение вложений капитала и /или труда приведет к производству все меньшего количества продукции на единицу труда или капитала. Убывающая отдача бывает двух видов: экстенсивная (когда производство расширяется за счет ресурсов худшего качества) и интенсивная (когда больше труда вкладывается в один и тот же участок земли или другой фиксированный ресурс). В обоих случаях, увеличивая производство, страна добьется меньшей продуктивности. Соответственно своим знаниям страна сначала использует лучшую землю, пастбища или самые богатые рудники. Выходя на международный рынок, страна увеличивает производство. Для этого ей приходится осваивать менее плодородные земли и менее богатые рудники. Не будем забывать, что природные ресурсы потенциально не возобновимы: руда в рудниках заканчивается, рыба в водоемах выводится, а пастбища уничтожаются перевыпасом.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЕГО ОТСУТСТВИЕ
Возможности для инноваций и технического прогресса всегда очень неравномерно распределяются между видами экономической деятельности.
Важным элементом общей социальной проблемы, которая занимала европейские умы в XIX веке, было существование так называемых надомных работников (Heimarbeiter). Они занимались производством, которое промышленность не научилась механизировать, и были частью производственного процесса, напрочь лишенной возрастающей отдачи и потенциала для инноваций. Сегодня роль надомных работников XIX века выполняют мексиканцы и другие соседи США, которых Америка привлекает для работы на производствах, не поддающихся механизации. В Мексике такой вид промышленности (макиладорас — предприятия, расположенные возле американской границы) растет за счет традиционных промыслов. Поскольку зарплаты работников на макиладорас меньше, чем зарплаты работников, занятых в традиционных промыслах, такое развитие снижает средние зарплаты. Аналогичный эффект мы видим и в сельском хозяйстве: культуры, выращивание которых можно механизировать, выращивают в Соединенных Штатах, а Мексика специализируется на клубнике, цитрусовых, огурцах и помидорах. Тем самым Мексика снижает свои возможности на введение инноваций, загоняя себя в технологический тупик и соглашаясь на трудоемкие виды деятельности.
Рынок, предоставленный сам себе, стремится к увеличению существующего разрыва в зарплатах в разных странах. «Волшебство» рынка только увеличивает существующую асимметрию между богатыми и бедными странами.
СИНЕРГИЯ И КЛАСТЕРНЫЙ ЭФФЕКТ, А ТАКЖЕ ИХ ОТСУТСТВИЕ
Фактор, необходимый для создания богатства, — эффект синергии — зачастую отсутствует в тех производствах, которые мы препоручаем бедным странам. Более того, его отсутствие часто заранее оговаривают. Африканцы могут экспортировать продукты своего неквалифицированного труда в США только в случае, если материалы для производства ввозятся из США. Чтобы привлечь производство в свои страны, африканцы должны конкурировать за него с гаитянами, т. е. быть еще беднее, чем они. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными на международном рынке, страны вынуждены снижать уровень зарплат.
Эстонские коллеги рассказывали мне, как в разгар триумфа, последовавшего за падением Берлинской стены, первые консультанты из Всемирного банка, прибывшие в Эстонию, порекомендовали ей закрыть свои университеты. В будущем, объяснили они, Эстония будет иметь сравнительное преимущество в таких видах экономической деятельности, для которых университетское образование не потребуется. В этой рекомендации присутствовали реализм и честность, которые были с тех пор утрачены.
Мировые финансовые организации подчеркивают важность образования, но не собираются поддерживать образование промышленной политикой, которая создаст спрос на образованных людей, как это делает Европа последние 500 лет. Они ухудшают финансовое бремя бедных стран, заставляя их финансировать образование людей, которые смогут устроиться на работу только в богатых странах. Развитию образования должна сопутствовать такая промышленная политика, которая гарантирует рабочие место выпускникам образовательных учреждений.
Больницы Северной Америки переманивают медсестер из бедных стран, таких как Тринидад, а значительная часть больниц на Карибах держится на медсестрах с Кубы. Тот факт, что образованные жители бедных стран востребованы в богатых странах, где они живут гораздо благополучнее, чем дома, является угрозой для социальной ткани бедных стран: самые компетентные, самые образованные граждане бегут из них. И хотя деньги, которые они посылают родным, составляют внушительные суммы (в Сальвадоре, например, «эмигрантские» деньги являются самым большим источником иностранной валюты в стране), обычно тратятся на повседневные нужды. Мои коллеги-экономисты с Гаити утверждают, что деньги, которые присылают домой эмигранты из США и Канады, убивают всякое желание работать за ничтожные 30 центов в час.
Таким образом, аргументы за глобализацию в определенных условиях становятся аргументами против нее в том виде, в котором она происходит сегодня. По логике, экономическая политика должна строиться с учетом специфической ситуации в каждой стране, как это делалось веками. В медицине лекарства-панацеи — это орудие шарлатанов.
ПАРАДОКСЫ СПОРА О ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Впечатляющее экономическое развитие Китая, Индии и Южной Кореи считается показательным примером успешной глобализации. Однако почему-то никто не задается вопросом: а принимали ли эти страны рекомендованное им лекарство — немедленную экономическую интеграцию? Ответ на этот вопрос— нет. И Китай, и Индия, и Южная Корея в течение 50 лет следовали разным вариантам политики, которую Всемирный банк и МВФ теперь запретили в бедных странах. Россия, напротив, применила рекомендованную шоковую терапию, и последствия ее были чудовищными.
Спор о глобализации в упрощенном виде является продолжением спора времен холодной войны. Рынок — это хорошо, а государство и централизованное планирование — плохо. Экономики централизованного планирования потерпели крах, соответственно, можно предположить, что рынок решит все проблемы.
Развитая страна с устойчивой промышленностью не пострадает от «естественных» сил рынка. Но сегодняшним бедным странам «естественные» силы рынка приносят деиндустриализацию и растущую бедность.
УСПЕХ СТРАН, ПРИНЯВШИХ КАПИТАЛИЗМ, И ПОРАЖЕНИЕ СТРАН, ЕГО НЕ ПРИНЯВШИХ
В период холодной войны сформировались два определения понятия «капитализм». В «свободном мире» капитализм понимается как система частной собственности на средства производства, в которой координация за пределами фирм происходит за счет рынка. Это понимание развилось в определение, никак не связанное с понятием производства; даже племя из каменного века, если только оно обменивалось и не прибегало к центральному планированию, можно считать капиталистическим. Благодаря марксизму капитализм стал системой, определяемой через отношения между двумя классами общества: собственниками средств производства и рабочими.
Однако существует и третье определение капитализма, сформулированное еще до холодной войны, но забытое, потому что оно не сочеталось с разделением мира на левый и правый политические фланги. Если мы примем определение, данное капитализму немецким экономистом Вернером Зомбартом, то поймем, почему капитализм в его сегодняшнем понимании позволяет странам специализироваться на бедности или на богатстве.
Вернер Зомбарт считает капитализм неким историческим совпадением, при котором разные факторы совпадают во времени и пространстве благодаря набору обстоятельств. Однако экономическое богатство — это следствие стремления к этому богатству, результат сознательной политики. Вот что Зомбарт считает движущей силой капитализма, его основой и одновременно условиями для его существования:
1. Предприниматель, олицетворяющий то, что Ницше называет капиталом человеческого ума и воли; человек, от которого исходит инициатива что-либо производить или чем-либо торговать.
2. Современное государство, которое создает институты, позволяющие улучшать производство и распространение благ, а также систему стимулов, при которой корыстный интерес предпринимателя совпадает с интересами всего общества. Институты включают как законодательную систему, так и инфраструктуру, патенты, защищающие новые идеи, школы, университеты, стандартизацию единиц измерения и т. д.
3. Механический процесс, то, что называют индустриализмом: механизация производства, которая приводит к высокой производительности и технологическому прогрессу благодаря экономии на масштабах производства и синергическому эффекту. Это понятие близко к тому, что мы сегодня называем национальной инновационной системой.
Согласно Зомбартову определению капитализма, богатые страны — это те, которые, эмулируя ведущие промышленные нации, последовали за ними в «промышленный век».
Итак, при наличии трех необходимых элементов, продолжает Зомбарт, для того чтобы капитализм функционировал, требуется, чтобы еще три вспомогательных элемента — капитал, труд и рынки — имели возможность для развития. Эти три кита стандартной экономической науки, по мнению Зомбарта, вовсе не являются движущей силой капитализма. Они лишь дополняют основные движущие силы. В отсутствие основных сил капитал, труды и рынки ничто. И консерватор Шумпетер, и радикал Маркс соглашались, что сам по себе, без инноваций и без предпринимательства капитал бессилен. В отсутствие человеческой воли и инициативы капитал, труд и рынки — бессмысленные понятия.
Стоит обратить внимание на то, что, по определению Зомбарта, сельское хозяйство не являлось частью капитализма. В колонии капитализм не допускали (основной признак колонии — отсутствие в ней обрабатывающей промышленности), поэтому они были обречены на бедность. Исходя из Зомбартова определения капитализма, мы можем так сформулировать проблему бедности: Африка и другие бедные страны бедны, потому что им отрезаны либо не даны возможности развивать капитализм как систему производства.
Ни в одном из двух определений, данных капитализму в период холодной войны, нет факторов, которые Зомбарт считает его движущей силой. В либеральном определении нет ни предпринимателя, ни государства, ни динамичных государственных институтов, ни технологического прогресса, т. е. механизации. Марксово определение концентрирует внимание на том, кто владеет средствами производства. Получается, что враждующие стороны (и либералы, и марксисты) одинаково не включают в понятие капитализма ни предпринимателя, ни государство, ни производственный процесс.
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИИ И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Объяснение экономического роста, сформулированное Йозефом Шумпетером: основные движущие силы экономического роста — это изобретения, а также инновации рождающиеся, когда изобретения появляются на рынке в виде новых продуктов или процессов; инновации создают спрос на инвестиционный капитал и наполняют капитал, который без них бесплоден, жизнью и ценностью.
Очень редко по-настоящему крупные инновационные волны прокатываются по обществу и нарушают однородность технологического развития — создают технологические прорывы. В начале 1980-х годов Карлота Перес и Кристофер Фримен назвали такие волны сменой технико-экономической парадигмы.
Смена парадигмы имеет громадное значение, потому что с ней меняется универсальная технология, на которой основано производство; пример — появление парового двигателя или компьютера. Инновации приводят к тому, что Шумпетер называл созидательным разрушением: появляются новые отрасли промышленности, а старые исчезают, потому что структура спроса полностью изменилась.
Основная черта любой технико-экономической парадигмы — новый дешевый ресурс, доступный в неограниченном количестве. Сегодня этот ресурс — микроэлектроника. Смену технико-экономической парадигмы отличает от особо крупной инновации то, что смена парадигмы меняет общество вне той области, которую мы называем экономикой. Смена парадигмы меняет расстановку сил в мире, экономические лидеры одной парадигмы совсем не обязательно останутся лидерами после ее смены. Великобритания достигла пика власти в эпоху парового двигателя и железных дорог, в эпоху электричества и тяжелой индустрии вперед вырвались Германия и Соединенные Штаты, а благодаря системе Форда бесспорным лидером стала Америка.
Во времена Маркса и ранних социалистов большая часть населения Европы занималась сельским хозяйством, однако в их книгах почти ничего не говорится о крестьянах. Самыми бедными людьми того времени были именно промышленные рабочие. Бедность в городе зачастую выглядит ужасней, чем в деревне. Однако по мере того как рабочие при растущей политической поддержке добивались повышения зарплат и выигрывали от роста производительности в промышленности, крестьяне отставали от них в экономическом плане.
Постепенно общество пришло к пониманию того, что не только промышленные рабочие могут страдать от эксплуатации: крестьян точно так же эксплуатирует город. Доход крестьян надо защищать от конкурентов — крестьян из бедных стран или из стран с лучшим климатом. Однако защита сельскохозяйственного производства была введена из иных соображений, чем когда-то промышленного. Введение тарифов на сельскохозяйственные товары было частью оборонительной стратегии с целью защитить крестьян индустриальных стран от таких же бедных крестьян из аграрных стран.
В Японии зарплата крестьянина составляла только 15 % зарплаты промышленного рабочего, в Норвегии — 24 %. Очевидно, что не будь в Японии или Норвегии промышленного сектора, средняя национальная зарплата упала бы катастрофическим образом.
Новая технология рождается, стремительно развивается, затем ее потенциал понемногу снижается, и рост производительности выравнивается. Богатые страны, в которых рождаются технологические инновации, производят и экспортируют товары, пока кривая производительности крутая.
Когда кривая производительности выравнивается, это значит, что использован практически весь потенциал по увеличению богатства (до тех пор, разумеется, пока новая технологическая парадигма не коснется того же продукта какое-то время спустя). Когда производство обуви переносится в бедную страну, оно почти не способствует повышению уровня жизни. Собственно говоря, это производство потому и делегируется бедным странам, что производственный процесс больше не прогрессирует.
Страна может остановиться в развитии, если продолжит специализироваться на технологически тупиковой деятельности. В случае технологического прорыва в ее области деятельности, в тупиковой модели бедная страна потеряет производство.
Теперь мы можем вернуться к основной теме этой книги. Разница в уровне жизни в богатых и бедных странах 250 лет назад выражалась пропорцией 1:2. Сегодня статистика Всемирного банка такова, что водитель автобуса в Германии получает реальную зарплату в 16 раз выше, чем его коллеги в Нигерии. Факт остается фактом, этот разрыв можно измерить, но неоклассическая теория не может удовлетворительно объяснить механизмы его роста. Мое объяснение следующее: страны, которые сегодня богаты, перепутали причины экономического роста — инновации, новые знания и новые технологии — со свободной торговлей, которая есть не что иное, как свободная транспортировка товаров через границы.
Экономический рост присущ только некоторым видам экономической деятельности. В любой конкретный момент времени всего нескольким видам экономической деятельности присуща крутая кривая производительности. Мировая экономика напоминает «Алису в стране чудес», где один из персонажей говорит: «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на одном месте!» В глобальной экономике поддерживать стабильный уровень благосостояния можно только постоянными инновациями.
Выгодные виды, как правило, рождаются благодаря новым знаниям, полученным в научных разработках. Поэтому многие страны инвестируют в исследования, хотя порой невозможно предсказать, какими будут их результаты. Изобретения часто происходят случайно — непреднамеренно или работе по совсем иной тематике.
Инновационные продукты распространяются в экономике иначе, чем инновационные процессы. Продукты создают высокие входные барьеры и высокую прибыль, как это произошло у Генри Форда в начале XX века и у Билла Гейтса сегодня. Однако когда эти инновации просачиваются в другие отрасли промышленности в виде инновационных процессов (когда автомобиль Форда приходит в сельское хозяйство в виде трактора, а технология Гейтса используется для бронирования гостиниц), они приводят к понижению цен, а не к росту зарплат. Использование информационных технологий настолько снизило прибыль в гостиничном бизнесе Венеции и Коста-дель-Соль, что вызвало жалобы работников.
ПОЧЕМУ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ ТОЛЬКО СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ, НЕ БОГАТЕЮТ?
Разные экономические секторы (их три: сельское хозяйство, промышленность и сектор услуг) по-разному отражают экономику страны и следуют разным экономическим законам, когда развиваются в разной последовательности.
Первый тип — Шумпетеровы виды деятельности; в них постоянные инновации приводят к росту зарплат, способствуя благосостоянию и развитию. Второй тип — Мальтусовы виды деятельности; они удерживают зарплату на уровне прожиточного минимума. Первый тип мы встречаем в основном в обрабатывающей промышленности, второй — там, где сельским хозяйством и производством сырья управляет рынок.
Чтобы разница между идеальными типами экономической деятельности стала яснее, я привяжу их к двум формам иностранной помощи — к той, которая помогла восстановить Европу и Японию после Второй мировой войны, и той, которая сегодня оказывается бедным странам.
Когда стало ясно, что союзники выигрывают Вторую мировую войну, встал вопрос: что делать с Германией, за 30 лет дважды развязавшей мировые войны. Генри Моргентау, министр финансов США с 1934 по 1945 год, составил план, позволявший раз и навсегда обезопасить мир от нового немецкого покушения. Он предложил полностью уничтожить промышленность Германии и превратить ее в сельскохозяйственную страну. Предполагалось вывезти промышленное оборудование и залить водой или цементом все шахты. Союзники одобрили эту программу на совещании в Канаде в конце 1943 года, и она вступила в силу сразу после капитуляции Германии в мае 1945 года.
Однако в 1946–1947 годах стало понятно, что план Моргентау создает в Германии серьезные экономические проблемы: деиндустриализация привела к резкому падению производительности в сельском хозяйстве. Это был интересный эксперимент. Механизмы синергии между промышленностью и сельским хозяйством, которые считали такими важными экономисты Просвещения, заработали и в обратную сторону: уничтожение промышленности привело к снижению производительности в сельском хозяйстве. Многие из тех, кто лишился работы в промышленности, вернулись в крестьянство, и в экономике воцарились библейские механизмы убывающей отдачи.
Бывший президент США Генри Гувер, опытный государственный советник, был отправлен в Германию, чтобы составить мнение о проблемах. Он провел расследование в начале 1947 года и написал три отчета. В последнем, написанном 18 марта 1947 года, Гувер заключил: «Существует заблуждение, что новую Германию, оставшуюся после аннексии территорий, можно превратить в сельскую страну. Это невозможно сделать, не уничтожив или не вывезя из нее 25 млн жителей».
Наблюдая мрачные последствия деиндустриализации, Гувер заново открыл меркантилистскую теорию населения: промышленная страна может кормить и содержать большее население, чем сельскохозяйственная такого же размера. Иными словами, промышленность во много раз увеличивает возможность страны прокормить большое население. Тот факт, что голод случается только странах, которые специализируются на сельском хозяйстве, подчеркивает власть промышленности, разделения труда и синергических эффектов, которые создают и сохраняют богатство.
Всего через 3 месяца после того, как Гувер отправил доклад в Вашингтон, План Моргентау был тихо похоронен. Разработан был План Маршалла, имевший противоположную цель — реиндустриализовать Германию и остальную Европу. Немецкая промышленность должна была быть восстановлена до состояния 1936 года, считавшегося последним «нормальным» довоенным годом.
Геноцид в Руанде 1994 года подается нам как результат этнической ненависти, в то время как остальной мир наблюдал за происходящим со стороны. Однако чтобы понять эту драму, необходимо обратиться к закону убывающей отдачи. В Руанде убывающая отдача стала результатом того, что растущее население все сильнее эксплуатировало пахотные земли, а рабочих мест за пределами первичного сектора почти не было. В ситуации, когда нет условий для создания растущей отдачи, пессимизм Мальтуса вполне оправдан. Рост населения приводит к кризису. Плотность населения Руанды — 281 человек. Это не слишком высокий показатель, если мы сравним его с некоторыми индустриальными странами. В Японии, например, на один квадратный километр приходится 335 человек, а в Голландии &Mdash; 477.
Даймонд цитирует французского ученого, специалиста по Восточной Африке Жерара Прунье: «Решение убивать было, конечно, принято политиками по политическим причинам. Но, как минимум, отчасти причина, по которой это решение с таким рвением было претворено в жизнь обычными рядовыми крестьянами … заключалась в их ощущении, что на недостаточном количестве земли живет слишком много людей, и если сократить число людей, то выжившим достанется больше».
После депрессии 1930-х годов Запад попытался решить проблемы сельскохозяйственного сектора, привнеся в него черты промышленного сектора. И в США, и в Европе крестьянам разрешили создавать рыночные монополии. В США сельское хозяйство и сегодня не освобождено от антитрастового законодательства, так что мы покупаем миндаль и изюм у легализованных американских монополий.
Как и остальные страны Латинской Америки, Перу приступила к амбициозному плану индустриализации после Второй мировой войны. В стране были введены тарифы на импортируемые промышленные товары и основано собственное производство. Появились новые рабочие места, уровень зарплат на которых рос. Однако ближе к концу 1970-х годов Всемирный банк и МВФ запустили свои программы перестройки развивающихся стран. Перу была вынуждена открыть экономику, и уровень зарплат трагически упал по всей стране.
Немецкий экономист Фридрих Лист размышлял о выборе времени для введения тарифов и свободной торговли. Он предложил такую последовательность:
1. Всем странам необходим период свободной торговли, чтобы изменить схему потребления, создав спрос на промышленные товары.
2. В течение следующего периода малые страны защищают и строят собственную промышленность (т. е. создают виды деятельности, для которых характерна возрастающая отдача, включая продвинутые услуги), а также создают синергию.
3. Начинается экономическая интеграция все больших географических областей. Тарифные барьеры, которые в 1830-е годы защищали каждый из 30 немецких штатов по отдельности, необходимо снять и установить заново вокруг экономически единой Германии. В каждой стране должен быть развит конкурентоспособный промышленный сектор.
4. Всем странам выгодно открыться для глобальной свободной торговли.
Обратим внимание на то, что Лист был протекционистом или сторонником свободной торговли в зависимости от того, на какой стадии развития находилась конкретная страна. Приняв точку зрения Листа, можно сказать, что такие страны, как Перу, совершили ошибку, когда попытались перескочить через третий этап развития.
Таким образом, мы пришли к важнейшему заключению, которое принималось экономистами как должное на протяжении веков, но было забыто многими современными экономистами: лучше иметь в стране неэффективный промышленный сектор, чем не иметь его вообще.
Никто не хочет об этом говорить, но даже известная своей неэффективностью промышленность коммунистических стран поддерживала уровень жизни населения более высокий, чем сегодня это делает в них капитализм. Эстонию часто приводят в пример как успешно интегрированную страну. Когда в 2005 году Эстония присоединилась к Евросоюзу, работник завода по производству мобильных телефонов получал в час один евро, что составляет меньше 10 % заработка дворника во Франкфурте или Париже.
Механизмы, которые действовали в Перу и которые мы обсудим на примере Монголии, делают почти невозможным появление в мире стран среднего достатка. Если экономика страны достаточно сильна, чтобы позволить ее промышленному сектору выжить, такая страна попадает в список богатых; в противном случае страна деиндустриализуется и опускается, попадая в группу бедных стран.
V. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРИМИТИВИЗАЦИЯ: КАК БЕДНЫЕ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БЕДНЕЕ
Всем неграм должно быть запрещено ткать как хлопок, так и шерсть, а также прясть и чесать шерсть, а также работать на любой железной мануфактуре, за исключением производства чугуна в чушках или железа в брусках; им также должно быть запрещено работать на производстве шляп, чулок или кожи любого вида… В самом деле, если они организуют мануфактуры, то правительству придется останавливать их прогресс, и нельзя ожидать, что сделать это будет так же легко, как сейчас.
Джошуа Ги. «Рассуждение о торговле и навигации в Великобритании». 1729
КОЛОНИИ И БЕДНОСТЬ
Во времена Джошуа Ги экономисты знали, что делать, если колонисты обнаруживали связь между своей бедностью и запретом на промышленность. Надо было запутать их, позволить свободно экспортировать продукты сельского хозяйства. «Поскольку люди на плантациях, соблазнившись возможностью свободно продавать свои продукты по всей Европе, с головой погрузятся в их выращивание, чтобы удовлетворить ее громадный спрос, они отвлекутся от мануфактур, а это единственное, в чем наши интересы могут совпадать с их интересами», — писал Мэтью Деккер в «Эссе о причинах упадка международной торговли» в 1744 году. Поразительно, насколько актуально звучит это предложение сегодня. Деиндустриальные бедные страны соблазняются возможностью свободно экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Европу и США и забывают об индустриализации. Однако еще ни одной стране мира не удалось разбогатеть на поставках за рубеж продовольственных товаров в отсутствие собственного промышленного сектора.
Испания, которая, как мы видели, была деиндустриализована потоками золота и серебра из Нового мира, сумела в начале XVIII века восстановить промышленность. Однако ей пришлось снизить уровень протекционных тарифов во время мирных переговоров с Нидерландами в Утрехте в 1713 году, после войны за испанское наследство. Сразу после этого в Испании началась деиндустриализация, и население утонуло в бедности. Когда последствия деиндустриализации стали совсем катастрофическими, испанцы казнили людей, которых сочли виноватыми в уступках свободной торговле. Тем, кого казнили перед этим, еще повезло. Глядя на пример Испании, немецкий экономист Иоганн Генрих Готтлоб фон Юсти в 1750 году предсказывал, что все страны, вынужденные производить только сырьевые товары, скоро поймут, что их насильно удерживают в бедности. Однако Юсти не мог предсказать, что Адам Смит и классические английские экономисты разработают экономическую теорию, которая этически оправдает поведение колонизаторов. Поскольку Адам Смит сделал мерой всего труд (ведь трудочасы стали мерой любого труда), то получилось, что странам, которые еще не индустриализованы, нет ни смысла, ни выгоды это делать.
Превращение американцев из защитников прав бедных стран в сторонников классического империализма произошло сравнительно недавно. Когда в 1941 году Уинстон Черчилль убеждал президента Франклина Д. Рузвельта вступить в войну, Рузвельт не преминул напомнить ему, какой несправедливой была в прошлом экономическая политика Англии. Вот как рассказывает об исторической встрече на военном корабле возле Ньюфаундленда сын Рузвельта Эллиот:
Черчилль заворочался в кресле.
— Торговые соглашения Британской империи… — начал он внушительно.
Отец прервал его:
— Да. Эти имперские торговые соглашения, о них-то и идет речь. Именно из-за них народы Индии и Африки, всего колониального Ближнего и Дальнего Востока так отстали в своем развитии.
Шея Черчилля побагровела, и он подался вперед.
— Господин президент, Англия ни на минуту не намерена отказаться от своего преимущественного положения в Британских доминионах. Торговля, которая принесла Англии величие, будет продолжаться на условиях, устанавливаемых английскими министрами.
— Понимаете, Уинстон, — медленно сказал отец, — вот где-то по этой линии у нас с вами могут возникнуть некоторые разногласия. Я твердо убежден в том, что мы не можем добиться прочного мира, если он не повлечет за собой развития отсталых стран, отсталых народов. Но как достигнуть этого? Ясно, что этого нельзя достигнуть методами восемнадцатого века. Так вот…
— Кто говорит о методах восемнадцатого века?
— Всякий ваш министр, рекомендующий политику, при которой из колониальной страны изымается огромное количество сырья без всякой компенсации для народа данной страны. Методы двадцатого века означают развитие промышленности в колониях и рост благосостояния народа путем повышения его жизненного уровня, путем его просвещения, путем его оздоровления, путем обеспечения ему компенсации за его сырьевые ресурсы.
Итак, всего 60 с небольшим лет назад Соединенные Штаты всеми силами боролись с экономической теорией, которая гласила, что все страны могут разбогатеть независимо от того, что они производят. Самые циничные из моих латиноамериканских друзей утверждают, что эта борьба была частью американского плана, целью которого было сменить Великобританию в роли всемирного гегемона. План Маршалла доказывает, что они неправы. С 1776 года до конца Второй мировой войны экономическая деятельность Америки была бесконечной войной с экономическими теориями, которые она сегодня пытается навязать развивающимся странам. Однако американцы были не единственными противниками этих теорий.
Один из таких периодов начался, когда в 1840-е годы теория Адама Смита впервые была применена на практике, однако долго он не продлился. В 1904 году кембриджский экономист В. Каннингем написал об этом периоде книгу под названием «Взлет и закат движения за свободную торговлю». Ради блага всех бедных людей на земле я надеюсь, что эта книга вскоре снова начнет издаваться. Интересно, кстати, отметить тот факт, что все предыдущие попытки глобализации заканчивались тем, что от нее начинал страдать сам гегемон. Описанный Каннингемом период характерен тем, что глобализация уничтожила сельское хозяйство Англии.
С 1990 года началась очередная популяризация свободной торговли. Однако, в отличие от сегодняшней ситуации, в XIX веке с английской теорией торговли постоянно конфликтовала альтернативная, уравновешивающая ее теоретическая традиция, успешно применявшаяся на практике в США и континентальной Европе. Сегодня ситуация куда более опасная, потому что альтернативной экономической науки практически нет. Неоклассическая теория и ее последователи монополизировали общепринятую экономическую науку. Поэтому бедным странам придется, вероятно, еще сильнее обеднеть, прежде чем на них обратят внимание. Возможно, мы дождемся чего-то вроде глобальной версии революций 1848 года.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИМИТИВИЗАЦИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ОНА РАБОТАЕТ
Прогресс и модернизация, как в 1960-е годы называли развития, направленные в обратную сторону, — это регресс и примитивизация. Экономическая деятельность, технологии и целые экономические системы временами возвращаются к давно забытым технологиям и способам производства. Для работы систем, основанных на возрастающей отдаче и синергических и системных эффектах, необходим определенный критический уровень производительности. Необходимость в крупном масштабе и объеме производства задает минимальный размер, которого необходимо достигнуть, чтобы система была эффективной. Когда процесс роста запускается в обратную сторону и необходимый масштаб исчезает, система рушится. Внезапное падение производства, к которому привела шоковая терапия, уничтожила виды деятельности, в которых присутствовала экономия на масштабах. Выжили только виды деятельности, для которых была характерна либо постоянная, либо убывающая отдача, — сектор традиционных услуг и сельское хозяйство.
ПРИМЕР МОНГОЛИИ
В течение 50 лет, предшествовавших реформам 1991 года, Монголия медленно, но верно отстраивала диверсифицированный промышленный сектор. Доля сельскохозяйственного производства в структуре ВВП стабильно снижалась, сократившись с 60 % в 1940 году до 16 % в середине 1980-х годов. Однако следование Плану Моргентау сумело успешно деиндустриализовать Монголию. Полвека усилий на строительство промышленности было уничтожено всего за четыре года, с 1991 по 1995. Почти во всех промышленных секторах физический объем производства упал на 90 % после того, как в 1991 году страна открылась для свободной международной торговли.
Деиндустриализация и развал государства породили в Монголии высокий уровень безработицы. Многим людям пришлось вернуться к образу жизни своих предков — кочевому пастушеству. Таким образом, вступая в XXI век, Монголия столкнулась с механизмом, который упоминается еще в Книге Бытия, но уже давно не работает в индустриальной части мира: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе».
Еще не осела пыль, поднявшаяся при падении Берлинской стены, а Монголия стала лучшей «ученицей» Всемирного банка среди бывших коммунистических стран. Она полностью открыла экономику чуть ли не за один день и следовала всем советам Всемирного банка и МВФ: минимизировала роль государства и предоставила рынку возможность позаботиться обо всем остальном. Предполагалось, что Монголия займет место в глобальной экономике, специализируясь в области, где у нее есть сравнительное преимущество. Однако будучи промышленной страной, она деградировала до уровня пастушеской. Оказалось, что кочевничество не может прокормить население, и произошла одновременная экологическая, экономическая и человеческая катастрофа.
Высокооплачиваемые консультанты из Всемирного банка представляли документы и модели, не связанные с Монголией и ее реалиями. Это были стандарты, которые предлагались всем развивающимся странам, независимо от конкретных обстоятельств. Впоследствии западные коллеги, приближенные к Всемирному банку, объяснили мне схему его работы. Все страны получают стандартные презентации, которые отличаются друг от друга только названием страны.
Никто не пытался объяснить, как остановить стремительный упадок экономики и можно ли развить промышленность при процентной ставке 35 %. Вместо этого местные представители Агентства международного развития США пожаловались, что в Монголии низкая культура предпринимательства. Я помню, каким абсурдным показался мне этот аргумент, ведь немногие предприниматели способны зарабатывать деньги при процентной ставке 35 %. Процентная ставка поддерживается на высоком уровне для того, чтобы избежать повторения финансового кризиса в Азии, и как обычно, реальная экономика была принесена в жертву банкам и финансовому сектору.
Американский экономист Джеффри Д. Сакс, один из ответственных за экономическую политику, которая вдвое снизила уровень реальной зарплаты в Монголии, предложил на страницах журнала «The Economist» Монголии специализироваться на производстве компьютерных программ. Поскольку теории Всемирного банка счастливо обитают в царстве, где контекст не имеет значения, Сакс предложил эту стратегию из самых лучших побуждений. Однако он упустил одну деталь: не считая столицы, только у 4 % жителей Монголии было дома электричество. У этих людей не было денег ни на компьютеры, ни на учителей, которые научили бы их с ними работать.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПЛАН МОРГЕНТАУ ДЛЯ СТРАН ТРЕТЬЕГО МИРА
Сегодняшние политики извращают смысл Плана Маршалла, когда называют так любой крупный денежный перевод бедным странам. Суть плана заключалась в реиндустриализации; капитал как таковой играл второстепенную роль, главной стратегией было развить промышленную жизнь страны. Для внедрения плана была введена тарифная защита национальной промышленности, а также строгие правила в отношении валютных сделок. Было признано, что рабочие места нуждаются в долгосрочной защите, а также что зарубежная валюта — ценный и редкий ресурс. В моей родной Норвегии, например, План Маршалла привел к полному запрету на импорт одежды вплоть до 1956 года, а также к жестким ограничениям на денежные переводы за рубеж. Ввозить в страну автомобили для частного пользования было запрещено вплоть до 1960 года.
Я считаю, что процесс глобализации, начавшийся в середине 1980-х годов и ставший особенно активным с момента падения Берлинской стены, принял форму Плана Моргентау. Страны «второго» и третьего мира с их слабой, еще развивающейся промышленностью были подвергнуты шоковой терапии, когда согласились на введение неограниченной свободной торговли. Глобализация стала современной колонизацией стран, и помогает ей в этом План Моргентау: сегодня колония, как и 5 веков назад, — это страна, которой позволено производить только сырьевые товары.
Сегодня, однако, мы сталкиваемся с тем, что реиндустриализацию стало труднее проводить, чем раньше. Рано или поздно даже самые убежденные идеологи будут вынуждены признать страшные экономические преступления, которые творятся на экономической периферии мира под флагом глобализации. Однако запустить обратный процесс будет гораздо трудней, чем в 1947 году. В XX веке бедным странам удавалось нагнать богатые при помощи технологии воспроизведения, или инженерного анализа: они могли, к примеру, разобрать на части американскую машину и создать на ее основе свою, немного отличающуюся модель. Теперь все больше наукоемких отраслей защищены патентами, воспроизведение стало почти невозможным. Кроме того, отрасли промышленности становятся все более невесомыми, их все труднее налаживать на новом месте. Одновременно с этим роль промышленности исполняет новый сектор продвинутых услуг, в котором информационно технологические центры больше напоминают традиционные производственные предприятия. Однако этот сектор зависит от спроса, создаваемого старой промышленностью. Он просто не возникает в странах, где население пасет коз, потому что у него нет покупательной способности.
ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И «ГИБЕЛЬ ЛУЧШИХ»
В стандартной теории торговли используется теорема Рыбчинского, которая гласит: международная торговля укрепляет специализацию страны в том факторе производства (капитале или труде), который наиболее интенсивно используется в экспорте страны.
Развитием этой теоремы стал эффект Ванека — Райнерта, или эффект «гибель лучших». Если после периода относительной автократии внезапно начинается свободная торговля между относительно развитой и относительно отсталой странами, то наиболее продвинутый и наукоемкий сектор промышленности наименее развитой страны имеет тенденцию к вымиранию. Они больше остальных чувствительны к падению объема производства, которое неминуемо вызывает внезапное появление зарубежной конкуренции. В 1990-е годы первой жертвой свободной торговли стала компьютерная промышленность Чехии и Бразилии.
Недавно историки экономики ввели в дискурс об экономическом развитии термин «лотерея ресурсов». Лотерея ресурсов во многом формирует экономику страны и определяет ее потенциал по развитию инноваций и несовершенной конкуренции.
Одни природные ресурсы больше привязаны к наукоемким отраслям промышленности, чем другие. У Кубы было абсолютное преимущество в двух тропических культурах — сахаре и табаке. Для кубинского общества табак был благом, а сахар — злом. Табак, который в основном выращивали на западе, создал в стране средний класс, свободную буржуазию. Сахар, выращиваемый на остальной территории Кубы, делил общество на два класса — господ и рабов. Выращивание табака требовало умения: собирать табачные листья нужно было по одному, поэтому цена продукта зависела от искусства сборщика. Выращивание табака способствовало развитию мастерства, индивидуальности и умеренного богатства. Сахар был анонимным производством, толпы рабов или наемных работников трудились под присмотром блюстителей капитала. Табак поддерживал в стране частную собственность, а сахар — зависимость от многонациональных корпораций.
В лотерее ресурсов везет тем, у кого нет ресурсов. Страна вынуждена искать искусственное, созданное человеком сравнительное преимущество, не давая ему пользоваться преимуществом природного происхождения, которое, как правило, несет убывающую отдачу. Великий Монтескье (1689–1755) писал: «Бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва».
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЮ
Мы уже убедились, как важны волны новых технологий, которые периодически меняют мир. Однако эти технико-экономические парадигмы по-разному влияют на центральные и периферийные страны.
Страны, которые производят новые технологии, подвергаются иному воздействию, чем те, которые их потребляют или поставляют сырье, необходимое для этих технологий. В XIX веке для южных штатов США, где выращивали хлопок, были характерны совсем иные процессы, чем в северных штатах, где из этого хлопка пряли нити. Трения между этими штатами, а также попытки Севера индустриализоваться и прясть хлопок, стали одной из причин гражданской войны.
Вследствие деиндустриализации и снижения уровня протекции в конце 1980-х годов во многих средних и малых бедных странах диверсифицированность производственного сектора сошла на нет. Эти страны вплотную подошли к анклавной экономике — монокультурной экономике на основании экспорта сырьевых товаров. Из-за общей деградации им становится все труднее следить за деятельностью анклавов, которыми, как правило, владеют иностранные компании. Пример — распространение в Африке частных армий для защиты горнодобывающих предприятий. Это явление отсылает нас к ранним колониальным временам, когда частные войска обеспечивали порядок в колониях.
Еще одна особенность технологического прогресса состоит в том, что новые технологии могут как создавать спрос на квалифицированный труд, так и понижать его; это происходит во всех странах — и в центре, и на периферии. Инновации делятся на две категории. «Microsoft» специализируется на производстве инновационных продуктов, для которого характерны возрастающая отдача, высокие барьеры на входе, большие прибыли и возможность платить работникам очень высокие зарплаты. Эти продукты приходят в гостиничный бизнес в Венеции уже в качестве инновационных процессов, они влияют на то, каким образом люди бронируют места в гостинице. Доступность совершенной информации в сети увеличивает ценовую конкуренцию среди гостиниц Венеции, что понижает норму прибыли и возможность выплачивать высокие зарплаты.
«СМЕРТЬ РАССТОЯНИЙ» И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ПЕРИФЕРИЙНЫХ СТРАНАХ
Географический фактор в экономике связан с фактором времени; эту связь Альфред Чандлер называет экономией на скорости, а Оппенгеймер — транспортным сопротивлением или сопротивлением времени и расстояния. Исторически сложилось так, что Австралия, благодаря своей географической изоляции, имела большее транспортное сопротивление, чем Ирландия. Иными словами, обрабатывающая промышленность Австралии была под защитой естественных факторов — времени и расстояния.
Однако в прошлом веке технологический прогресс привел к заметному снижению транспортного сопротивления по всему миру; этот феномен иногда называют «смерть расстояний». Благодаря ей периферийным странам стало труднее догнать в развитии центральные, т. е. развивать экономическую деятельность, для которой характерна возрастающая отдача.
Из-за практически нулевого пространственно-временного сопротивления протекционизм бесполезен для многих новых отраслей производства. Вместе с тем людям с идеями, которые в прежние времена можно было бы успешно развить в пределах национальной инновационной системы, сегодня приходится переезжать в места, где есть инновационная среда и венчурный капитал. Несколько лет назад на ежегодной конференции Ассоциации университетских исследовательских парков в Мэдисоне (штат Висконсин) многие университеты американского Среднего Запада жаловались на утечку мозгов: исследователи с интересными идеями стремятся уехать либо на восточное, либо на западное побережье, поближе к активной промышленной среде и источникам венчурного капитала. В странах третьего мира эта утечка мозгов проявляется еще сильнее. Интересные идеи, изобретаемые под эгидой национальной инновационной системы в периферийных странах, при глобальной экономике скорее всего будут утекать в страны «первого» мира.
РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ И ГЕОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ ПО ШУМПЕТЕРУ
Тот факт, что в ходе глобализации мировой экономики рынок труда остается неглобализованным, приводит именно к разрушительному разрушению. Вдобавок из-за того что все больше продуктов защищено авторскими правами и патентами, созидание стремится замкнуться в нескольких ограниченных географических областях. По моему мнению, все описанные здесь механизмы примитивизации создают чудовищные преграды для экономического развития стран третьего мира. Такой процесс Гуннар Мюрдаль называет эффектом обратной волны: из бедных стран в богатые течет больше квалифицированного труда и больше капитала, чем из богатых в бедные.
Мне кажется, что сегодняшнее коллективное понимание мира погрязло в экономических заблуждениях, рожденных холодной войной, когда существовали экономические теории, основанные на иллюзорной системе Давида Рикардо, и каждая рисовала собственную утопию — утопию плановой экономики и утопию свободного рынка. Когда коммунисты провозгласили принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям», неоклассическая экономическая наука ответила им теорией Самуэльсона, опубликованной в 1945 году. Она доказывала, что исходя из стандартных теоретических предпосылок глобальная свободная торговля приведет к снижению цен на производственные факторы, т. е. цена на труд и капитал станет по всему миру одинаковой. Рынок будет лучше коммунизма, все станут одинаково богатыми, надо только дать «невидимой руке» полную свободу. Долгое время эта теория считалась такой нелогичной, что никто не пытался применить ее на практике. Именно эта пародия на полноценную теорию в итоге легла в основу работы Всемирного банка и МВФ в странах третьего мира. Она привела к последствиям — ни много ни мало — катастрофическим для многих развивающихся стран.
В 1953 году, в период «охоты на ведьм», которую Маккарти вел, выслеживая в американском обществе сторонников левых взглядов, Милтон Фридмен (1912–2006) положил конец спорам о предпосылках теории торговли. Не смотрите на предпосылки теории торговли, предложил Фридмен; смотрите на то, сколько пользы она приносит Соединенным Штатам.
Выбор теории для применения в развивающихся странах становится вопросом элементарной силы — кто сильнее, тот и прав. Поскольку экономисты в лучших университетах Африки получают 100 долл. в месяц, а Всемирный банк предлагает им 300 долл. в день за работу консультантами по теории торговли, не стоит удивляться, что так мало экономистов в развивающихся странах идут против правящей теории.
Наука, которая на первый взгляд кажется незыблемой мудростью, оказывается некой смесью отрывков разных теорий, при помощи которой можно доказать практически все, что угодно.
Мы должны принять все богатство и разнообразие экономической теории и практики, а значит, осознать, что нам нужен куда более обширный экономический инструментарий, чем тот, который используется сегодня. Политика, которая будет благотворна для Великобритании, не будет полностью аналогична той, что благотворна для Швейцарии, и будет иметь совсем мало общего с политикой, благотворной для Экваториальной Гвинеи, Мьянмы или Вануату.
VI. ОПРАВДАНИЕ ПРОВАЛА: ОТВЛЕКАЮЩИЕ МАНЕВРЫ ПЕРИОДА «КОНЦА ИСТОРИИ»
И какой бы вред ни нанесли злые, вред добрых — самый вредный вред!
Фридрих Ницше. 1885
КОГДА ДОБРОТА ДЕЛАЕТ НАС ЗЛЫМИ
Аруша, Танзания, май 2003 г. Пока я рассеянно перелистывал тезисы предстоящей лекции, к кафедре подошел танзанийский генерал, член парламента. «Я прочел ваш доклад и у меня только один вопрос, — сказал он серьезно. — Они нарочно не дают нам развиваться?» Я как раз собирался рассказать о своем видении глобализации и свободной торговли членам парламента Восточной Африки (объединенный парламент Кении, Уганды и Танзании), представлявшим страны, где глобализация привела скорее к примитивизации, чем к модернизации. Крепкий веселый генерал завоевал мое уважение еще на утренней сессии как прекрасный председатель.
«Кажется, есть только два варианта, — ответил я генералу. — Либо они делают это по невежеству, либо по злому умыслу. Возможно, конечно, что по обеим причинам. Наверное, можно сказать, что система их заставляет так поступать». «Спасибо, — ответил он. — Мне просто было интересно». Я мог бы добавить, что после Нюрнбергского процесса над фашистскими военными преступниками оправдание «система заставила меня это сделать» больше не считается приемлемым.
Набором рекомендаций, приведших к результатам, о которых говорил танзанийский генерал, был так называемый Вашингтонский консенсус. Эти рекомендации были разработаны в 1990 году, сразу после падения Берлинской стены, и их появление связывают с американским экономистом Джоном Уильямсоном. Заповеди консенсуса требуют среди прочего либерализации торговли, потоков прямых иностранных инвестиций, дерегуляции и приватизации.
С 1990 года прошло много времени, но правила Вашингтонского консенсуса так и не привели к изменениям (особенно росту реальной зарплаты) в бедных странах. Вначале реакция экономистов на этот провал была такой же, как и на провал либерализации в 1760-е и 1840-е годы: «Нам просто не хватает масштаба рынка; как только ограничения будут устранены, система laissez-faire покажет свое превосходство». Однако со временем игнорировать ухудшающиеся условия жизни в периферийных странах, как и движение антиглобалистов, становилось все сложнее. Успех Китая и Индии трудно использовать для защиты Вашингтонского консенсуса. Более 50 лет эти страны практиковали протекционизм (возможно, чересчур суровый), чтобы построить собственную промышленность, и наконец созрели для того, чтобы выйти на международный рынок и пожать плоды свободной торговли.
Особое значение приобрела риторика. На экономическом уровне это звучит как «либо ты за глобализацию в ее сегодняшней форме, либо ты за плановую экономику». Распад Советского Союза доказал, что рыночная экономика эффективнее плановой, что без вмешательства человека рыночная экономика способна создать утопическую всемирную гармонию. С падением Берлинской стены наступил, как выразился Фрэнсис Фукуяма, «конец истории».
Вся шумиха насчет конца истории стала возможной благодаря экономической теории, которая научно обосновывала мнение, что предоставленный сам себе рынок — это машина по производству гармонии.
Бывший старший научный сотрудник Всемирного банка Уильям Истерли с достойной уважения готовностью признает, что 2,3 трлн долл., выделенных за последние 50 лет на развитие бедных стран, были потрачены впустую. Не считая признания, что стратегия оказалась провальной, расследование шло по ложному следу. Настоящая суть проблемы — тот факт, что экономическое развитие присуще только некоторым видам деятельности, сегодня так и не понята экономистами, хотя с конца 1400-х годов до появления Плана Маршалла в 1947 году этот факт был общепризнанным.
КАПИТАЛИЗМ И ПАРАДОКС НАМЕРЕНИЙ
Как объясняет Адам Смит, мы получаем хлеб насущный благодаря не доброте булочника, но желанию этого булочника заработать. Наша потребность в хлебе удовлетворяется за счет жадности другого человека?
Прекрасное решение этой задачи, а также способ консолидации самой идеи с теорией рыночной экономики предложил миланский экономист Пьетро Верри в 1771 году: «Частный интерес каждого индивида, когда он совпадает с общественным интересом, является лучшей гарантией общественного счастья». В то же время очевидно, что при рыночной экономике эти интересы не всегда сосуществуют в идеальной гармонии друг с другом. Создать политику, при которой частные интересы совпадут с общественными, — задача законодателя.
В начале XX века экономисты континентальной Европы продолжали считать, что экономическое развитие бывает непреднамеренным последствием намерений, которые никак нельзя назвать благородными. Даже в XVI веке инновации и технологический прогресс были востребованы государством в двух сферах: войне (изобретение пороха, металла для мечей и пушек, военных кораблей и их оснащения) и роскоши (шелк, фарфор, стекло, бумага). Король Дании и Норвегии Кристиан V (1670–1699), например, описал свои главные страсти вполне в духе схемы Зомбарта: «охота, дела любовные, военное дело и мореходство». Благоразумие в денежных вопросах отступало, когда речь шла о войне и любовницах.
Ближе к концу XV века (когда Колумб доплыл до Америки) венецианцы, осознавшие, что прогресс — это побочный продукт войн и государственных расходов, создали новый институт — патенты. У изобретателей появился 7-летний период монополии на свои изобретения — стандартный срок для прохождения обучения у мастера. Они смогли воспользоваться преимуществами новых знаний, которые раньше считались побочным продуктом крупных статей государственных расходов. Прогресс создавала динамическая несовершенная конкуренция. Примерно в то же время был основан родственный патентам институт тарифной протекции, придуманный для того, чтобы изобретения могли проникать в новые географические области.
Пороки правительства — чрезмерный национализм и стремление к войне — часто косвенно приводят в долгосрочной перспективе к благу отдельных людей. Изобретения, полезные в гражданской жизни, которые были рождены как побочные продукты войны: консервы (война с Наполеоном), массовое производство по стандартизованным ценам (производство оружия во время гражданской войны в США), шариковая ручка (ВВС США во время Второй мировой), охранная сигнализация (война во Вьетнаме) и мобильная спутниковая связь (американская программа «Звездные войны»). Осознав это, можно идти к экономическому прогрессу напрямую, а не обходными путями.
УТРАТА 500-ЛЕТНЕГО ЗАПАСА МУДРОСТИ
Второй вопрос, которым мы задались, звучит так: как удалось эйфории периода конца истории навсегда сбросить со счетов практический опыт по успешному созданию богатства и благополучия? Всего 60 лет назад, объявляя План Маршалла, Государственный секретарь США Джордж Маршалл преподносил это взаимодействие как основу западной цивилизации.
Когда надо было защитить Азию и Европу от коммунистической угрозы, Соединенные Штаты прекрасно понимали, что лучший способ укрепить страны, пограничные с коммунистическими (от Норвегии и Германии до Кореи и Японии), — сделать их богатыми при помощи индустриализации, причем на поддержку этого проекта необходимо бросить лучшие экономические, политические и военные силы. Как только коммунистическая угроза отступила, развитые страны немедленно сменили тактику. Экономическая тактика действовала противоположным образом и была похожа на британскую колониальную политику в ее худших проявлениях.
Почему Запад, вместо того чтобы работать над созданием всемирного благосостояния (как США во время Второй мировой войны), устраивает чудовищные разборки в попытке силой насадить в доиндустриальных странах демократию? Что защищает теории, которые так откровенно и безнадежно неадекватны? Очевидно, что это среди прочего корыстный интерес. Некоторым странам в краткосрочной перспективе выгодна свободная торговля с отчаянно бедными странами. Однако капитализму как системе никак не может быть выгодно, чтобы половина населения земного шара не имела нормальной покупательной способности. Так что даже корыстный экономический интерес в данном случае будет краткосрочным.
ОПРАВДАНИЕ ПРОВАЛА. ОТВЛЕКАЮЩИЕ МАНЕВРЫ
Вашинтонский консенсус развивался по следующему пути, причем каждое новое открытие приветствовалось как окончательное решение проблемы бедности:
1) «приведите в порядок цены»;
2) «приведите в порядок право собственности»;
3) «приведите в порядок институты»;
4) «приведите в порядок управление»;
5) «приведите в порядок конкурентоспособность»;
6) «приведите в порядок инновации»;
7) «приведите в порядок предпринимательство»;
8) «приведите в порядок образование»;
9) «приведите в порядок климат»;
10) «приведите в порядок болезни».
Хотя эти факторы очень важны, они не влияют на суть процесса развития. Если в стандартную экономическую модель не включены факторы, о которых я твержу в этой книге (возрастающая и убывающая отдача, несовершенная конкуренция, синергические и структурные связи, а также разнообразные возможности для инноваций), то подобный список лишь отвлекает внимание от более значительных проблем. Нас ведут по ложному следу.
VII. ПАЛЛИАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА: ЧЕМ ПЛОХ ПРОЕКТ ЦЕЛЕЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Конец истории породил не только тупиковые теоретические построения и отвлекающие маневры, о которых мы говорили в предыдущей главе. Он дал жизнь проекту по искоренению бедности (точнее, излечению ее симптомов) под амбициозным названием «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ). На первый взгляд ЦРТ казались вполне благородными задачами в мире, где необходимо срочно принять меры, чтобы решить хотя бы самые острые общественные проблемы. В проект входило снижение вдвое количества людей, живущих на 1 долл. в день, уменьшение количества голодающих, борьба с болезнями и детской смертностью, а также образовательные и экологические задачи. Однако Цели тысячелетия разработаны на основании принципов, долгосрочные эффекты от которых недостаточно продуманы и изучены.
Новизна подхода заключается в том, что Цели развития выдвинули на первый план иностранное финансирование внутренней общественной политики страны и политики распределения в ней доходов, вместо того чтобы подчеркивать важность финансирования бедных стран их собственными силами. Помощь при стихийных бедствиях, которая раньше носила временный характер, обрела постоянную форму в виде ЦРТ. В страны, где и без того половину правительственного бюджета составляет иностранная помощь, планируется увеличить денежные вливания из-за рубежа. Невольно задумаешься о том, до какой степени такой подход подсаживает многие страны на постоянное «пособие по безработице», т. е. фактически формирует благотворительный колониализм.
Цели тысячелетия демонстрируют, что ООН после нескольких неудачных десятилетий развития отказалась от попыток справиться с причинами бедности и направила усилия на борьбу с их симптомами, которые облегчаются денежными вливаниями извне.
Я утверждаю, что паллиативная экономика практически вытеснила экономику развития. Необходимо найти равновесие между экономикой развития и паллиативной экономикой, если мы хотим избежать негативных последствий в долгосрочной перспективе. Не надо забывать, что ухудшение экономической ситуации в бедных странах произошло тогда, когда ООН передала ответственность за мировое развитие Всемирному банку и МВФ.
КАК РЕШАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В ПРОШЛОМ
Судя по количеству стран, которым удалось выбраться из бедности, следуя Плану Маршалла, этот план реиндустриализации — самый успешный проект развития в истории человечества. В знаменитой речи, произнесенной в июне 1947 года в Гарварде, Государственный секретарь США Джордж Маршалл (впоследствии награжденный Нобелевской премией мира) подчеркнул, что «крестьянин всегда производил продовольственные продукты, которые выменивал у горожанина на другие необходимые для жизни товары». Разделение труда на виды деятельности с возрастающей отдачей в городах и с убывающей отдачей в сельской местности «является основой современной цивилизации», сказал Маршалл, добавив, что этому укладу грозит разрушение.
Для цивилизации необходима деятельность с возрастающей отдачей. Об этом говорили экономисты и политики, начиная с Антонио Серра (1613 г.) и заканчивая Александром Гамильтоном, Авраамом Линкольном и Фридрихом Листом. Лист подчеркивал связь между городскими видами деятельности и политической свободой. «Городской воздух освобождает», — гласит старая немецкая пословица. Попытка навязать цивилизацию и демократию странам, где невозможны Шумпетеровы виды деятельности, приводит к банкротству стран, а также к резне и застою, как в Ираке и Афганистане.
Принципы политики, которая помогает странам перейти от бедности к богатству при помощи городских видов деятельности, на удивление мало изменились с момента своего появления при Генрихе VII в 1485 году до применения их в Корее в 1970-е годы. Я утверждаю, что многие сегодняшние проблемы — результат того, что Всемирный банк и МВФ объявили инструменты, которые необходимы для создания деятельности с возрастающей отдачей и которые применялись всеми странами, разбогатевшими после Венеции и Голландии, вне закона.
При наличии в стране промышленного сектора (даже если он не так эффективен, как в богатых странах) реальные зарплаты будут выше, чем если его нет. Так что если промышленный сектор страны слаб, то надо работать над его эффективностью, а не закрывать сектор. Это, вероятно, самое важное правило, которое было забыто после наступления в 1989 году конца истории.
Раньше экономическое развитие шло путем эмуляции экономического строя богатых стран, т. е. при помощи создания менее эффективных копий этого строя. Ключевые качества этого строя — существенное разделение труда (на промышленные отрасли и на специалистов) и наличие сектора с возрастающей отдачей (промышленность и наукоемкие услуги) — были зафиксированы Антонио Серра (1613 г.), Джеймсом Стюартом (1767 г.), Александром Гамильтоном (1791 г.) и Фридрихом Листом (1841 г.).
Временами эти принципы бывали забыты: во Франции в 1760-е годы, в Европе в 1840-е и во всем мире в 1990-е. Однако эти периоды забвения неизменно заканчивались, слишком дорого они обходились обществу. Физиократия принесла Франции голод, ставший одной из причин Французской революции. Эйфорическое принятие свободной торговли закончилось в 1848 году революциями во всех крупных европейских державах, кроме Англии и России. В 1990-е годы вновь привело к прогрессирующей бедности в периферийных странах, но в этот раз мы среагировали на это неправильным образом — продолжили концентрироваться на симптомах, а не на причинах проблемы
КАК РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕГОДНЯ
Стандартная экономическая теория, на которой основана сегодняшняя стратегия развития, не знает качественных различий между видами экономической деятельности. Ни одно из сегодняшних государств-банкротов (или близких к банкротству) не выдержало бы экзамен Джорджа Маршалла на создание современной цивилизации: в них чрезвычайно слаб промышленный сектор, невозможен благотворный обмен между городской и сельской деятельностью. Кроме того, их экономическая база недостаточно диверсифицирована, в них ограниченное разделение труда, они специализируются на видах деятельности с убывающей отдачей и/или совершенной конкуренцией, при которой у них нет власти над ценами, а технологический прогресс приводит к снижению цен для зарубежных потребителей, а не к повышению зарплат для их граждан.
Поскольку капитал как таковой считается ключом к развитию, бедным странам выдают кредиты, однако производственный и промышленный строй не способен прибыльно освоить их. Начисленные проценты часто превышают норму прибыли, полученной с инвестиций. Поэтому финансирование развития может быстро приобрести черты финансовой пирамиды, которая приносит прибыль только тем, кто ее основал и находится недалеко от выхода.
Вложения в человеческий капитал без внесения одновременных изменений в производственную структуру, с тем чтобы создать спрос на полученные умения, не способствуют ничему, кроме эмиграции. В обоих случаях мы видим эффекты обратной волны экономического развития: больше капитала — денежного и человеческого — будет направляться из бедных стран в богатые, чем наоборот.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Денежные вливания должны сопровождаться учреждением промышленного сектора и секторов услуг, способных принять физические и человеческие инвестиции, как это было сделано по Плану Маршалла. Уйти от производства сырьевых товаров необходимо для того, чтобы создать экономическую основу для стабильности и благосостояния, даже если новые сектора не сразу выдержат мировую конкуренцию. Зарождающейся индустриализации понадобятся особые условия (такие как предложенные Планом Маршалла).
Кейнс считал, что инвестиции являются результатом стихийного оптимизма, который он называл жизнерадостностью (animal spirits). В отсутствие такого оптимизма (желания инвестировать в условиях неопределенности) капитал стерилен. Мотивация, стоящая за animal spirits, — желание максимизировать прибыль, нарушив тем самым равновесие совершенной конкуренции. С точки зрения бизнесмена, бедные страны страдают от нехватки инвестиций, потому что в них мало прибыльных инвестиционных возможностей, а мало их из-за низкой покупательной способности и высокого уровня безработицы. Тарифы могут создать стимулы для переноса производства на рынки труда бедных стран. Идея, что индустриализация поможет быстро увеличить количество рабочих мест и повысить уровень зарплат (что оправдает временно завышенную цену на промышленные товары), лежала в основе импортозамещающей индустриализации латиноамериканских стран, которая долгое время была крайне успешной, а также в основе американской экономической теории в 1820-е годы.
Мудрые теоретики развития прошлых времен Джеймс Стюарт и Фридрих Лист подчеркивали, что торговля должна открываться постепенно, чтобы дать производственному сектору бедного торгового партнера время к ней приспособиться. Именно так Евросоюз проводил интеграцию Испании в ЕС в 1980-е годы; интеграция прошла успешно. Однако в результате триумфального настроения, начавшегося в 1989 году, прежняя практика интеграции была забыта, сменившись шоковой терапией.
Мейнстримова экономическая наука упрямо отказывается замечать реальные порты, аэропорты, дороги, электростанции, школы, больницы и отрасли услуг, появившиеся благодаря «неэффективному» промышленному сектору, а ведь все эти блага были результатом созданного этим сектором спроса на труд и инфраструктуру. Эта стадия была обязательной частью развития, через которую прошли все богатые страны, однако сегодня она запрещена мировыми финансовыми организациями. Мейнстримова экономическая наука упрямо отказывается замечать реальные порты, аэропорты, дороги, электростанции, школы, больницы и отрасли услуг, появившиеся благодаря «неэффективному» промышленному сектору, а ведь все эти блага были результатом созданного этим сектором спроса на труд и инфраструктуру. Эта стадия была обязательной частью развития, через которую прошли все богатые страны, однако сегодня она запрещена мировыми финансовыми организациями.
История показывает, что порочный круг бедности и неразвитости можно разорвать, только если качественно изменить производственную структуру бедной страны. Успешная стратегия включает диверсификацию производства, переход от секторов с убывающей отдачей (традиционного производства сырьевых материалов и сельского хозяйства) к секторам с возрастающей отдачей (технологиям, интенсивной обрабатывающей промышленности и услугам), в результате происходит разделение труда и возникает другой общественный строй. Ключ к стабильному развитию — это взаимодействие между секторами с убывающей и возрастающей отдачей в пределах одного рынка труда.
НЕПОТИЗМ ПО МАЛЬТУСУ ПРОТИВ НЕПОТИЗМА ПО ШУМПЕТЕРУ
В последнее время, когда вновь зазвучали призывы индустриализовать бедные страны, появились новые возражения против этой идеи: индустриализация приведет к соисканию ренты и непотизму.
Получение ренты — это основная движущая сила капитализма. Вопрос только в том, распространяется ли эта рента на все общество — в виде более высоких прибылей и зарплат, а также большего основания для налогообложения. Сегодня к аргументу о получении ренты добавился аргумент о том, что промышленная политика приводит к непотизму — заработать можно только благодаря связям или знакомству с «правильными» людьми. Выделим два типа непотизма. Возьмем такие примеры:
2005 г.: производитель сахара с Филиппин использует политическое влияние, чтобы затруднить импорт сахара на Филиппины.
2000 г.: мэр Чикаго Ричард Дэйли (игнорируя рекомендации экономистов Чикагского университета) субсидирует и без того богатых инвесторов в сектор высоких технологий при помощи инкубатора.
1950—1960-е гг.: шведский индустриалист Маркус Валленберг использует близкое знакомство с лейбористским министром финансов Гуннаром Стренгом, чтобы заручиться политической поддержкой по развитию шведских компаний «Volvo» и «Electrolux».
Между первым примером и остальными есть ключевое различие. Филиппинский коррупционер, в отличие от остальных, добивается субсидий сырьевого товара с убывающей отдачей, который конкурирует на мировом рынке в отрасли, где действует совершенная конкуренция. Иными словами, он практикует непотизм Мальтусова типа, который ведет его страну по пути убывающей отдачи от такой деятельности, в которой технологический прогресс бессилен поднять реальные зарплаты. Все остальные случаи непотизма Шумпетерова типа; они приводят к тому, что Шумпетер назвал исторически возрастающей отдачей (к сочетанию возрастающей отдачи и быстрого технологического прогресса).
Если мы будем настаивать на отказе от промышленной политики только потому, что уход от совершенной конкуренции позволит нескольким коррупционерам разбогатеть, это значит, что мы неправильно понимаем природу капитализма. Суть капитализма в том, чтобы уйти от совершенной конкуренции. Главное, чему учат студентов в хороших школах бизнеса, — как избежать ситуации совершенной конкуренции, той самой, которую сегодняшние экономисты принимают за предпосылку своих теорий.
Огромные суммы, которые перечисляются бедным странам в ходе достижения ЦРТ, непременно приведут к непотизму. Благодаря этим деньгам кто-то обязательно разбогатеет, ведь свободная от коррупции экономика существует только в моделях неоклассических экономистов. Выбрав Шумпетеров непотизм, а не непотизм при распределении гуманитарной помощи, мы можем дать шанс бедным странам освободиться от экономической зависимости. Шумпетеров непотизм увеличивает экономический сектор страны и мира. Непотизм, основанный на денежной помощи, ничего не увеличивает, кроме зависимости от зарубежных стран, при этом отвлекает внимание бедной страны от создания национальных ценностей.
Патенты и тарифы представляют узаконенное получение ренты, чтобы добиться целей, не достижимых при совершенной конкуренции. Почему же тогда возражения о получении ренты и непотизме не применяются к патентам, а только к тарифам и другим стратегическим инструментам, применяющимся в бедных странах? Мы можем в какой-то мере обоснованно сказать, что богатые страны устанавливают правила, которые разрешают им самим конструктивное получение ренты, но запрещают его бедным странам.
РАЗНООБРАЗИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
Еще одно белое пятно современной экономической науки — неспособность понять, насколько для экономического роста важно разнообразие. Разнообразие — ключевой фактор для развития. Во-первых, разнообразие видов деятельности с возрастающей отдачей (максимизация количества профессий в экономике) — это основа синергических эффектов, которые способствуют экономическому развитию. Во-вторых, современная эволюционная экономика считает разнообразие основой для выбора технологий, продуктов и организационных решений, которые являются ключевыми элементами зарождающейся рыночной экономики. В-третьих, разнообразием объясняется исключительность Европы, где массовость конкурирующих друг с другом национальных государств привела к толерантности и спросу на разнообразие. Ученый, взгляды которого не нравились какому-то королю или правителю, мог устроиться на работу в другом государстве, способствуя разнообразию идей. Мы живем в век невежества, когда аргументы, объясняющие экономическое развитие, забыты. Важность разнообразия — один из этих аргументов.
В ситуации, аналогичной сегодняшней, группа просвещенных немецких экономистов XIX века добилась внимания канцлера Отто фон Бисмарка и получила разрешение сделать Германию государством всеобщего благосостояния.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОЛНОЙ ТЕОРИИ
Вслед за падением Берлинской стены в экономической науке безраздельно воцарились вариации на тему неоклассической теории. Хотя во время холодной войны неоклассическая теория служила эффективным идеологическим щитом, по ее постулатам не была построена ни одна страна. Три ключевые идеи отца-основателя неоклассической экономической науки Альфреда Маршалла (1842-1924) были утеряны, когда экономика отошла от Маршаллова качественного понимания промышленного производства и занялась математическими формулами, которые он привел в приложениях к «Принципам экономической науки» (1890 г.). Маршалл писал, что вводить налоги на деятельность с убывающей отдачей ради того, чтобы субсидировать деятельность с возрастающей отдачей, — это правильная стратегия. Он подчеркивал, что важно заниматься производством в секторах, где самый быстрый технический прогресс, и обращал внимание на роль синергии (идея промышленных районов).
Ханс Зингер, ученик Шумпетера, был автором идеи, что обучение и технологический прогресс в производстве сырьевых товаров, особенно в отсутствие сектора обрабатывающей промышленности, приводят к снижению экспортных цен, вместо того чтобы приводить к повышению уровня жизни страны — производителя сырьевых товаров. Производство и сбыт цветочных луковиц в Голландии (технически сельскохозяйственная деятельность) характеризуется многими чертами из раздела «Обрабатывающая промышленность». Промышленность типа «макиладорас», наоборот, характеризуют черты, типичные для сельского хозяйства. [К макиладорас относятся промышленные предприятия, которые заняты производством товаров и услуг на экспорт на базе переработки зарубежных материалов, поступивших в режиме возвратного импорта]. Если покупатели сельскохозяйственной продукции находятся в другой стране, а не в ближайшем городе, на одном рынке труда с крестьянами, то между сельской и городской деятельностью не могут завязаться ключевые синергические и цивилизующие связи, о которых писал Джордж Маршалл в 1947 году. Один этот фактор уже проваливает план развития Африки при помощи экспорта продовольствия в страны первого мира.
РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОЛОНИАЛИЗМА
Благотворительный колониализм характеризуется следующими чертами:
1. Смена направления денежного потока по сравнению с колониальными временами: средства идут из центра в колонию.
2. Интеграция коренного населения такими способами, которые радикально подтачивают его прежний источник существования.
3. «Подсаживание» коренного населения на то, что по сути является пособием по безработице.
Благотворительный колониализм создает парализующую зависимость периферийной страны от центральной. Центр контролирует периферию системой стимулов, которая создает полную экономическую зависимость, тем самым не давая зависимой стране политически мобилизоваться. Социальные условия, в которых сегодня оказались обитатели североамериканских резерваций, демонстрируют нам, что крупные социальные выплаты привели к дистопии, а не к утопии. Богатые страны смогут в любой момент отказать бедным в денежной помощи, пище и источниках заработка, если им не понравится их национальная политика.
Политические аспекты благотворительного колониализма крайне мрачны. В ситуации, когда мировая экономика растет и многие сырьевые товары становятся стратегическими ресурсами, бедные страны мешают богатым получить доступ к этим сырьевым товарам примерно так же, как коренные североамериканские индейцы когда-то мешали первым поселенцам пользоваться землей. Некоторые американские консерваторы всерьез рассматривают вариант организовать резервации для бедных. Не далее чем 10 лет назад двое американских ученых в своей активно рекламировавшейся книге рекомендовали организовать нечто подобное. «Говоря „государство-изолятор“, мы подразумеваем более высокотехнологичную и дорогостоящую версию индейской резервации, в которой будет содержаться некое существенное меньшинство населения, в то время как вся остальная Америка сможет спокойно заниматься своими делами». Цели тысячелетия неприятно близки к тому, чтобы совместить взгляд на бедность, с точки зрения потребления, с идеей организации резерваций, в которых будут удовлетворяться основные нужды бедных, в то время как остальной мир будет заниматься «своими делами».
Вызов, который бросает нам мусульманский мир, можно рассматривать как реакцию на эту ситуацию, в которой мусульманам очевидно, что мировой капитализм их обманывает, предлагая в качестве единственного варианта развития государство-изолятор.
РАСТУЩЕЕ НЕРАВЕНСТВО ВНУТРИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В 2005 году интеграция в Европе достигла критической точки. Граждане стран, давно входящих в ЕС, чувствуют себя преданными, потому что их благосостояние размывается, как и граждане новых стран — участников Союза, потому что их благосостояние не растет так быстро, как они ожидали. Не удивительно, что многие задаются вопросом, что же пошло не так.
От проблем, созданных доминирующей сегодня экономической теорией, страдают не только страны третьего мира. Члены Европейского союза испытывают растущее экономическое неравенство в пределах собственных границ. Таким образом, одни и те же проблемы существуют на трех разных уровнях: на глобальном, на уровне Европейского союза и на уровне наиболее развитых стран. Во всех случаях причина одинакова — внезапный отказ от проверенных веками теорий.
Хотя в учебниках по экономике немецкого экономиста Фридрих Листа (1789–1846) почти не упоминают, его экономические принципы не только позволили индустриализовать континентальную Европу в XIX веке, но и упростили интеграцию Европы начиная с 1950-х годов и заканчивая успешной интеграцией Испании и Португалии в 1986 году. Ниже я привожу ключевые принципы Листа.
* * *
Ницше считает «добрых и справедливых» только предшественниками худшего представителя рода человеческого, самого «презренного человека», воплощения стагнации — letzte Mensch, «последнего человека» человеческих останков, которые засоряют Землю перед концом света. Этот псевдочеловек Ницше — бледное подобие сегодняшнего деградировавшего человеческого животного, продукта исторического процесса, в ходе которого человечество обрекает себя на стагнацию и закат, соглашаясь на комфортное существование в своем текущем статусе, вместо того чтобы создавать что-то новое. Последний человек представляет собой финальную стадию вымирания человеческой воли и созидательной силы — человека обменивающегося (homo economicus neoclassicus).
VIII. ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ УТРАЧЕННОЕ ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ СТРАН СРЕДНЕГО ДОСТАТКА
В нескольких книгах Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–2006), в свое время бывший президентом Американской экономической ассоциации, объяснил, чем отличается экономический строй богатых стран от бедных: в богатых странах в отраслях обрабатывающей промышленности возникает олигополистическая конкуренция, в которой власть и рента делятся между уравновешивающими друг друга силами большого бизнеса, мощных профсоюзов и активного правительства.
Работы Мозеса Абрамовича помогают понять, почему 500-летний культ обрабатывающей промышленности был обязательной стадией экономического развития. В середине 1950-х годов вооруженный статистическими данными по экономике Америки с 1870 по 1950 год, Абрамович решил измерить, какую часть экономического роста можно объяснить факторами, которые традиционно считались ответственными за этот рост, — капиталом и трудом. К своему изумлению, он обнаружил, что эти факторы могут объяснить только 15 % роста, зафиксированного за временной период длиной 80 лет. Традиционные факторы экономического роста оставляли необъясненной «погрешность» в размере 85 % —«показатель уровня нашего невежества», как назвал его сам Абрамович.
Я познакомился с Мозесом Абрамовичем и его женой Керри на международной конференции, в организации которой принимал участие. Она проходила в пригороде Осло в мае 1993 года — того самого, когда Абрамович вновь вернулся к теме погрешности.
В докладе я попытался обсудить проблемы стран третьего мира в терминологии Абрамовича. Это была попытка объединить факторы, которые казались мне взаимосвязанными. Я хотел показать, что страна может быть богатой, как и отдельный человек, только практикуя определенные виды экономической деятельности. «Догонять» в данном случае означало взбираться вверх по иерархии видов деятельности; «отставать» означало сползать вниз.
Я обсуждал свою идею с бывшим профессором по международной торговой теории Ярославом Ванеком, и тот сказал, что считает мое качественное измерение новым, третьим, измерением графического изображения торговой теории.
Я не удивился, когда самые молодые из 20 присутствовавших в зале экономистов громко рассмеялись над идеей ранжировать виды экономической деятельности по их качеству. Когда я вернулся на свое место после презентации, сидевший рядом Абрамович сказал мне: «Очень хороший доклад». Я так удивился, что решил, что мне это послышалось, но он повторил свою похвалу.
В письме от 16 августа 1996 года, комментируя один из моих докладов, Абрамович писал: «Я согласен со многим из того, что Вы говорите. В частности, я согласен, что „погрешность“ и рост в целом характерны для промышленности».
В 1945 году, перед тем как план министра финансов Генри Моргентау по деиндустриализации Германии должен был вступить в действие, Мозес Абрамович был приглашен консультантом по экономическим вопросам представителя США в Комиссии по репарациям. Команда Абрамовича подготовила меморандум, в котором объяснялось, почему План Моргентау уничтожит экспортную мощность Германии и ей нечем будет платить за продовольствие и прочие необходимые статьи импорта. Кроме того, меморандум предупреждал, что в случае исполнения Плана Моргентау в стране начнется массовая безработица, средний уровень дохода опустится ниже жалкого стандарта довоенной Польши. Моргентау был в ярости и вызвал всю группу на ковер. После того как Абрамович признал свою ответственность за выводы, Моргентау покинул встречу, сославшись на тяжелую мигрень. В 1945 году План Моргентау был исполнен. Как и предсказывали Абрамович и его команда, это привело к бедности, безработице и падению уровня жизни в Германии. План действовал до начала 1947 года, когда, проявив умственную и политическую гибкость, Соединенные Штаты отказались от него. 5 июня 1947 года Государственный секретарь Джордж Маршалл объявил о начале Плана Маршалла, имевшего цель реиндустриализовать Германию.
Перестройка и преждевременная глобализация сначала привели к появлению в деиндустриальных областях мира избыточного механического оборудования (целых кладбищ ржавеющей техники от Лимы до Улан-Батора), а теперь избыточное население этих областей перемещается в области избыточного богатства. Отец неоклассической экономической теории Альфред Маршалл (1842—1924) справедливо указывает на то, что убывающая отдача является причиной «большинства … переселений, о которых нам поведала история». Однако мы можем дополнить это утверждение: сегодня миграция происходит из областей, где царит деятельность с убывающей отдачей, в области с возрастающей отдачей. В своем первом учебнике по неоклассической экономической теории Маршалл предлагает возможное решение этой проблемы. Стране надо обложить налогом деятельность с убывающей отдачей (производство сырьевых товаров) и выплачивать премии (субсидии) деятельности с возрастающей отдачей. Именно так возникали страны среднего достатка начиная с 1485 года, когда Генрих VII принял бразды правления обнищавшим Английским королевством и обложил налогом экспорт необработанной шерсти ради того, чтобы субсидировать производство шерстяной ткани.
Страны среднего достатка получаются из бедных стран, эмулировавших экономический строй богатых стран, занявшись деятельностью, для которой типичны взрывы производительности. Суть этой модификации в том, чтобы достигнуть разнообразия и возрастающей отдачи, которые создают синергические эффекты — неважно, если вновь созданный сектор останется лишь местным лидером, так и не достигнув мирового лидерства. «Чемпион мирового уровня» нужен стране как источник иностранной валюты. Долгое время стратегия развития Австралии использовала сектор с убывающей отдачей (производство шерсти) в качестве источника валюты, но присутствие в стране обрабатывающей промышленности, пусть и не мирового уровня, обеспечивало необходимые взрывы производительности и баланс между властью промышленности и профсоюзов, так что средняя реальная зарплата продолжала расти. Такой же была ранняя стратегия развития Соединенных Штатов. Сегодня эта стратегия работает так же хорошо, как и раньше.
Как доказало применение Плана Маршалла в Европе, зарплаты, рабочие места, школы, порты и больницы, которые создаются вокруг небольшого и относительно неэффективного сектора обрабатывающей промышленности (европейская промышленность по всем статьям проигрывала тогдашнему лидеру, США), вполне реальны, при условии что процесс остается динамичным. В Европе тарифы и другие барьеры понемногу снижались, происходила постепенная интеграция. Европейский союз следовал этой политике вплоть до интеграции Испании в 1980-е годы, в ходе которой бережная интеграция обеспечила сохранность ключевых испанских отраслей промышленности.
Как я уже говорил, торговля между странами одного уровня развития всегда взаимовыгодна. Благодаря разнообразию производства, которое сопутствует богатству, малым богатым странам (это Швеция или Норвегия) есть чем торговать друг с другом. Несмотря на размер рынка (4,5 млн человек), Норвегия — третий по величине рынок для экспорта Швеции, она немного отстает от Германии и США. Такие торговые отношения должны создаваться между странами, которые сейчас бедны и которые мало что могут продать друг другу.
Вместо региональной интеграции в Латинской Америке и Африке мы наблюдаем противоположное. Заключая двухсторонние торговые соглашения с Соединенными Штатами, латиноамериканские страны цементируют свое положение, завершающее мировую зарплатную иерархию, соглашаясь на монокультурную экономику, — неважно, специализируется она на сырьевых товарах или на производстве, зашедшем в технологический тупик. Вместо усиления интеграции регионов в Африке межконтинентальная торговля постепенно вытесняет региональную: Евросоюз вынуждает Египет покупать европейские яблоки, вытесняя Ливан, который веками поставлял их на египетский рынок. Глобализация, которой руководят Всемирный банк и МВФ, ударила по периферийным странам преждевременно и несимметрично и с самого начала была обречена на то, чтобы породить в рамках всемирного разделения труда группу стран, специализирующихся на бедности. Созидательное разрушение Шумпетера часто оказывается географически поделено таким образом, что созидание и разрушение происходят в разных частях мира; в этом суть экономики развития, по Шумпетеру.
В книге я утверждаю, что исторически существует только один способ разорвать порочный круг бедности, и для этого необходимо сначала изменить производственный строй. Иногда требуется ввести жесткие политические меры. Странам третьего мира сегодня необходимо вернуться к экономическому диспуту, который велся в европейских странах, от Италии до Норвегии, в XIII веке. Диспут посвящался не тому, должна ли Европа следовать по пути индустриализации, которым уже пошла Англия; все участники были согласны, что должна. Спор шел о том, как в ходе этого процесса должна делиться ответственность между государством и частным сектором.
Как обнаружили страны, недавно вошедшие в состав Европейского союза, национальная научная деятельность может быть чрезвычайно слабо связана с национальной производственной структурой; инвестируя в эту деятельность, страна рискует спонсировать производственные сектора других стран. Ситуация аналогична той, которую описывает Ханс Зингер: если весь рост национальной производительности страны отдается ее зарубежным клиентам, инновации не делают эту страну богаче.
Национализм, несмотря на последствия его крайней формы, был обязательной стадией экономического развития, сопутствующей индустриализации. Желание видеть свою страну и потомков богатыми и благополучными веками было основным мотивом, побуждавшим европейские страны соревноваться друг с другом. Многие экономисты были националистами. По-настоящему великие националисты, такие как Фридрих Лист (1789–1846) в Германии и Джузеппе Мадзини (1805–1872) в Италии, были первыми сторонниками создания Соединенных Штатов Европы. Германия и Италия были отсталыми странами, состоявшими из нескольких городов-государств. Лист и Мадзини считали, что объединение Германии и Италии в национальные государства — шаг на пути к объединению Европы, а также, по мнению Листа, и к глобальной свободной торговле. Национализм требовал индустриализации и политической унификации, но этот национализм (как для Листа, так и для Мадзини) был только шагом к унификации Европы. Этот шаг, тем не менее, был необходимым.
Сегодняшний экономический курс и параллельный ему политический (политика Вашингтонского консенсуса и война с терроризмом) обречены на провал: тот и другой игнорируют исторический опыт, вернее исторические законы создания богатства и демократии. В Сомали и Афганистане экономический строй еще не дорос до стадии возрастающей отдачи, в нем нет синергического ben commune (общего блага), а все еще действуют правила игры с нулевой суммой. Естественный политический строй такого общества — племенной, а его лидеров мы часто именуем полевыми командирами.
Производство, специализирующееся на сырьевых товарах и не доросшее до возрастающей отдачи и общего блага, способствует созданию феодального политического строя. Однако и без него государство продолжает изымать экономический излишек, как это делалось при колониализме, и почти ничего не давать взамен; так происходит в африканских странах. В таких условиях докапиталистический производственный и политический строй оказывается чрезвычайно живучим. Я предполагаю, что социализм Ньерере в Африке провалился по той же причине, по которой провалились действия НАТО и Запада в Афганистане. Все дело в экономическом строе.
Со времен Жана-Батиста Кольбера известна лишь одна формула создания национальных государств — индустриализация, инвестиции в инфраструктуру и создание свободной торговли в пределах страны. После того как эти условия выполнены, можно делать следующие шаги.
И все же у нас есть причины для оптимизма. Менталитет и институты относительно быстро меняются вслед за экономическим строем. Причина и следствие в процессе развития были расставлены по местам еще Иоганном Якобом Мейеном в 1769 году: «Известно, что не сначала примитивные народы улучшают свои обычаи, а потом открывают полезные виды хозяйственной деятельности, а наоборот». Смена менталитета приходит со сменой способа производства.
Ключевым элементом создания богатства после 1848 года была мощь профсоюзов, которая обеспечивала то, что мы называем основанным на тайном сговоре распространением экономического роста: жители богатых стран разбогатели, выбрав повышение производительности в форме более высоких зарплат, а не в форме более низких цен, как произошло бы в условиях совершенной конкуренции. Парикмахеры разбогатели, поднимая цену стрижки соответственно увеличению производительности промышленных рабочих и росту их зарплат.
В XX веке процветала эмуляция при помощи обратной инженерии: японцы могли купить американскую машину, разобрать ее и сделать улучшенную версию. Компания «Microsoft» — глобальный поставщик программного обеспечения, ее защищают по всему миру патенты и авторские права, что делает обратную инженерию невозможной. Попытка воспроизвести «Microsoft» в миниатюре в каждой стране (как с автомобильными заводами) будет не только неэффективной, но и нелегальной. Продукты, защищенные патентами, авторским правом и роялти, занимают большое место в мировой торговле. Возрастающая доля защищенных продуктов в мировой торговле неминуемо приведет к увеличению пропасти между богатыми и бедными странами.
Кроме того, в «профиле» технологического прогресса произошли параллельные изменения, способствовавшие разрушению традиционного способа, который до сегодняшнего дня позволял богатым странам богатеть.
1. В мире наблюдается тенденция перехода от экономии на масштабах производства в рамках одного завода (заводов, объединяющих большое количество рабочих в одном месте) к рассредоточенному производству с экономией на диверсификации.
2. Количество рабочих мест в секторе обрабатывающей промышленности сокращается, а в секторе услуг — растет, так как в обрабатывающей промышленности растет уровень автоматизации.
3. Работникам сферы традиционных услуг недостает рыночной власти, которую создает мастерство традиционных промышленных рабочих. Их становится все легче заменить «человеком с улицы».
4. Децентрализованная франшиза, заменившая централизованную собственность, размывает власть работников, потому что им приходится иметь дело с большим количеством работодателей.
Китай и Вьетнам вошли на мировой рынок промышленных товаров благодаря тому, что платили работникам чрезвычайно мало. До Китая ни в одной стране не возникало сочетания стремительного технологического прогресса с таким малым ростом реальной зарплаты. Оно создает давление на зарплаты в сторону понижения повсеместно, от Мексики до Италии. Для покупателей из богатых стран это отличная новость, поскольку для них она означает низкие цены на товары.
Стратегии, которые успешно помогли разбогатеть странам «первого» мира, могут в условиях третьего мира не сработать. Тем не менее в странах, которым удается поймать взрыв производительности в какой-либо современной отрасли промышленности (как это удалось Ирландии с информационными технологиями и Финляндии с мобильными телефонами), происходит заметный скачок реальной зарплаты. Европа сама создала себе проблему, сначала деиндустриализовав восточноевропейские страны, а затем быстро интегрировавшись с ними. Получилось, что на собственном заднем дворе Европейский союз устроил локальную версию третьего мира с его безработицей и неполным использованием трудовых ресурсов.
Продвинутая экономика услуг не возникает в обществе охотников и собирателей; для нее необходима синергия, сопутствующая только развитому промышленному сектору. Именно поэтому деиндустриализация — уничтожение сектора с возрастающей отдачей, которую проходят периферийные страны под руководством мировых финансовых организаций, является преступлением против человечества.
Сегодня, используя проект целей тысячелетия, мы пытаемся превратить временное решение проблем 1930-х годов (бесплатную раздачу супа для бедных и организацию ночлежек для бездомных) в окончательное решение проблем стран третьего мира. Его по-прежнему надо искать в теориях Шумпетера и Кейнса. Глобализация притупила инструменты, предложенные Кейнсом. Раньше при помощи расходов за счет дефицита государственного бюджета национальные правительства могли поднять национальную экономику, увеличивая спрос на местные товары и услуги. В условиях же деиндустриализованной открытой экономики традиционная политика Кейнса приведет скорее к увеличению импорта, чем к оживлению местного производства. Таким образом, инструменты, которые в прошлом были эффективными, сегодня либо запрещены, либо утратили свою силу.
Я уверен, что в будущем станет возможным создавать государства среднего достатка, но новые условия жизни в мире потребуют более радикальных политических мер, чем в прошлом. Когда в результате блокады Наполеона и войны с Англией в 1812 году Штаты оказались практически отрезаны от торговли с Европой, американской промышленности это пошло на пользу. Только после этого она набрала критическую массу, чтобы создать Американскую систему промышленности, образец успешной национальной стратегии развития. Вторая мировая война произвела аналогичный эффект на Латинскую Америку. Все силы Европы и США тратились на войну, так что промышленные товары перестали поступать в Латинскую Америку, что в сочетании с высокими ценами на латиноамериканские сырьевые товары спровоцировало индустриализацию региона.
Сегодня мы стоим на перепутье и можем пойти в любую сторону. Нарастает угроза финансового кризиса, после которого кейнсианство придется возрождать в новых условиях и в глобальном масштабе.
Как писал Кристофер Фримен, растущее с 1980-х годов экономическое неравенство (аналогичные всплески неравенства случались в 1820, 1870 и 1920-е годы) связано со сменой технико-экономической парадигмы. Такие смены всегда несут критические структурные изменения, спрос на новые умения, высокую прибыль в новых отраслях промышленности и бум на фондовом рынке.
Если это так, то можно связать идеологические циклы с технологическими. Вначале правительства, оказывая поддержку бизнесу, способствуют росту неравенства, но рано или поздно это приводит к восстанию против невзгод, к которым ведет такая политика.
http://loveread.ec/contents.php?id=75411
Мастеру-новичку, чтобы разобрать современный утюг, нужно иметь навыки разгадывания китайских головоломок: везде скрытые защелки, хитрые шиповые соединения, фасонный крепеж.
… Одна из коренных установок потребительского общества неумолима: изделие массового спроса должно безупречно проработать (репутация производителя, а как же) не более 2-2,5 гарантийных сроков, а затем быстро и необратимо прийти в полную негодность. У ведущих производителей ширпотреба до половины и более конструкторского персонала задействованы на том, чтобы, не дай бог, изделие не оказалось слишком долговечным. Как сказывается на экологии работа индустрии на мусорный бак, а на массовом сознании – привлечение действительно высококлассных специалистов к фактически вредоносной деятельности, вопрос другой, но утюг таким потугам почти не поддается: слишком он прост, а внутри него слишком жарко и влажно. Поэтому порча утюга на стадии конструирования сводится преимущественно к тому, чтобы затруднить его разборку вне сервисного центра.
http://vopros-remont.ru/elektrika/razborka-remont-utyuga/
Константин Крылов
Генерал золотого карьера (часть 3)
15.12.2016
https://politconservatism.ru/articles/general-zolotogo-karera-chast-3

1-й Премьер-министр Сингапура
Итак, 9 августа 1965 Сингапур вышел — точнее, был изгнан — из состава Федерации и стал независимым государством.
В принципе, ситуация описывалась выражением «голый Вася на морозе». То есть: у острова не было никаких ресурсов. Годовой доход на душу населения составлял около $400 (доллар был весомее, чем сейчас, но всё равно гордиться нечем). Перспективы были не просто туманны, а темны как тучи. Сингапур не мог предложить остальному миру ровным счётом ничего — кроме, разве что, оригинальных для Азии порядков.
Мировая пресса комментировала происшествие в стиле «помер Максим, да и хрен с ним». 10 августа 1965 г. газета «Sydney Morning Herald» писала: «Независимый Сингапур не рассматривался в качестве жизнеспособного образования три года назад, ничто в текущей ситуации не предполагает, что он более жизнеспособен сегодня»[1]. Формулировка весьма изящная, вот только в переводе на медицинский она означает «прогноз неблагоприятный». Или, говоря словами самого Ли Куан Ю, «если бы мы потерпели неудачу, нашим единственным выбором было бы воссоединение с Малайзией, но теперь уже на их условиях, т. е. на правах одного из штатов, подобно Малакке или Пенангу».
Тем не менее, команда Ли Куан Ю сдаваться не собиралась. И у неё были на то причины. Не вполне очевидные внешнему наблюдателю, но очень актуальные для местности.
Есть такая легенда (а может, и правда) — про американский суперкомпьютер, построенный ради моделирования военно-морских сражений. Компьютер был самообучающимся и после проведения ряда условных боёв начал лихо выигрывать у людей. Однако некоторые его действия стали довольно странными. Например, выводя в море свою эскадру, комп каждый раз стрелял в свой самый медленный корабль и топил его. Как показали расчёты, действовал он правильно. Так как скорость эскадры равна скорости самого медленного корабля в её составе, а в морском бою скорость — это всё.
Сингапур без Малайзии оказался, волею судьбы, без самого медленного корабля — то есть без того самого сектора экономики, который больше всего сопротивляется модернизации. То есть без классической азиатской деревни с её общиной, обычаями, привычками, менталитетом и т.п. Которые с модернизацией несовместимы, а выводятся очень и очень трудно – должно пройти несколько поколений[2].
В Сингапуре азиатской деревни не было вообще. Это был город-государство, где были бедняки, люмпены, мафиози, черти лысые, но вот крестьян не было. А которые были — те были эмигрантами, далеко от дома, общин не образовывали и ни на что влиять особо-то и не могли[3].
Далее. Сингапурское общество было многонациональным. Но отсутствие «коренного населения» и общее колониальное прошлое, хотя и не отменяло расовые и национальные конфликты, — куда от них денешься? — но лишало их важной компоненты: темы исторической справедливости. Да, китайцы и малайцы очень не любили друг друга, а все вместе не любили индусов. Расовые столкновения происходили регулярно. Однако же — все сингапурцы были эмигрантами, и не такими уж давними притом. Никто не мог сказать китайцу «убирайся в свой Китай», не нарвавшись на встречное предложение убираться в Индию, Таиланд, Шри-Ланку или куда-нибудь ещё.
Руководство же острова — и прежде всего Ли Куан Ю — исходило из того, что главенствующей в Сингапуре культурой является британская, а языком межнационального общения de facto является английский. Это позволило со временем сильно сгладить остроту расовой проблемы.
И наконец, выгодное географическое положение. Насколько оно в итоге оказалось выгодным, мы ещё поговорим ниже. Пока что зафиксируем: Сингапур был и остаётся безальтернативным перевалочным пунктом морских и воздушных грузопотоков, пересекающих Тихий и Индийский океаны.
Конечно, эти три карты надо было ещё уметь разыграть. Потому что всё остальное было очень плохо.
Вот что написано о Сингапуре в советской книжке Еловацкого «Страны Юго-Восточной Азии»[4]:
«Население Сингапура составляет 1,5 млн. человек… Уровень жизни трудящихся Сингапура крайне низок. В 1958 году из 400 тысяч рабочих 100 тысяч не имели работы или были заняты неполный день. 25% населения острова влачат жалкое существование. Среди трудящихся Сингапура широко распространён туберкулёз и другие болезни. Медицинское обслуживание почти совершенно недоступно для широких масс трудящихся… Сингапур, как всякий колониальный город, — это город резких контрастов: роскошь нескольких богатых кварталов, где живёт кучка английских колонизаторов, индийских ростовщиков и китайской торговой буржуазии, и мрачные рабочие кварталы, в которых проживает 70% населения города. Там среди лабиринта узких и грязных улиц, в убогих лачугах влачат жалкое существование несколько сот тысяч рабочих, кули, рикш и мелких торговцев. Среди отбросов, в поисках остатков пищи, копаются болезненные оборванные дети. Улицы полны бродячими ремесленниками, ищущими случайного заработка, чтобы кое-как прокормить себя и свою семью. Жилищем многих тысяч сингапурских жителей служат лодки-джонки…»
Это слезоточивое описание не является чистой выдумкой. Нет, примерно так всё и выглядело – да и странно было бы ожидать чего-то другого. И к этому стоит присовокупить ещё кучу проблем, отсутствие вооружённых сил (при наличии тлеющего конфликта с Индонезией[5]) и кончая неопределённостью международного статуса нового государства (в ООН пришлось вступать самим).
Начал Ли Куан Ю с создания армии.
Концепция была следующей: несмотря на малую численность населения, Сингапур должен был быть способен выставить большую призывную армию, развёртываемую в кратчайшие сроки. Конкретно — 150,000 человек для ведения боевых действий и примерно половина от этого числа для работников тыла. Упор делался на «энергичное, образованное и активное население». За образец были взяты Израиль и Швейцария. Из чего следовала ставка на новейшее вооружение и тотальную военную подготовку населения – что, кстати, работало ещё и на сплочение.
Оборонная доктрина строилась на идее недопущения блицкрига. Агрессор не должен был получить возможность поставить мир перед фактом — «Сингапур наш». Задачей армии должно было быть затягивание конфликта и придание ему публичности, а тем временем должны были сработать политики, шумя на весь мир по поводу агрессии и привлекая внимание мирового общественного мнения, а там и политиков[6].
Разумеется, не всё получилось сразу. Во время первой годовщины независимости был устроен военный парад, на котором народу показали его защитников. Чтобы увеличить число людей в мундирах, к марширующим присоединили полицию и пожарников. Зато в 1969 году на военном параде ехали свежезакупленные американские танки и бронетранспортёры с сингапурскими экипажами (у Малайзии и Индонезии танков не было). А в 1971 году армия Сингапура насчитывала 17 кадровых батальонов (16,000 военнослужащих) и 14 батальонов резервистов (11,000 военнослужащих), отлично обученных и вооружённых новейшим американским оружием. К этому прилагалась эскадрилья в 16 истребителей, шесть кораблей и ракетные катера.
Сейчас сингапурская армия выросла до небольшого, но очень кусачего льва. Она оснащена по последнему слову техники, и не только покупным оружием — многое сингапурцы делают сами. Армия призывная, все мужчины от 18 лет служат два года. Сам Ли Куан Ю был сторонником службы женщин, как в Израиле, и только сопротивление консервативно настроенных министров сорвало эти планы. Тем не менее, на 1000.0 человек населения 92.2 cингапурцев (включая обладателей вида на жительство[7]) либо служат, либо состоят в резерве[8].
И всё равно: немалая часть военного бюджета тратится на агрессивную рекламу контрактной службы. Армия отлично вооружена[9], причём не только оружием. Когда на рынке только-только появились айпады, Минобороны Сингапура сразу купило несколько тысяч — для армии, чтобы солдаты могли снимать клипы и селфиться в полевых условиях. Не для их удовольствия, конечно, а чтобы потом проводить «разбор полётов» по итогам… Единственное, чего не хватает сингапурской армии — это полигонов и мест для учений: остров всё-таки маленький[10].
В интервью газете New Straits Times в 2000 году Ли Куан Ю сказал: «Мы не хотим воевать ни с кем. Но мы способны заставить агрессора заплатить очень высокую цену».
Так что, дорогие граждане, когда вам начнут заливать «это только дураки вооружаются и бряцают оружием, а умные экономически развиваются, вот посмотрите на Сингапур, ни с кем не воюют люди, а как живут» — смело плюйте в лицо заливальщикам. Сингапур — это супермилитаристское государство, для которого армия — один из государствообразующих институтов.
Армия, однако, имеет один существенный минус: это расходная статья. А у Сингапура были серьёзнейшие проблемы со статьями доходными.
Ну, общее направление развития было понятным. Если Сингапур вообще хотел жить, ему нужно было проводить индустриализацию. Беда была в том, что индустриализация требует или рабского труда, или инвестиций.
И инвестиции пришли. Точнее, пришли деньги как таковые — определённая часть которых стала инвестициями.
В своих мемуарах Ли Куан Ю упоминает знакомство с неким доктором Альбертом Винсемиусом, голландским экономистом. Он появился на острове ещё в 1960-м и заверил премьера, что у них всё будет хорошо, так как они сделали две важные вещи: уничтожили коммунистов и сохранили статую сэра Томаса Стэмфорда Бингли Раффлза. По его мнению, эти два обстоятельства должны были привлечь инвесторов.
С коммунистами понятно: частные инвесторы не любят страны, где они сильны, так как у коммунистов в стандартной программе значится, как минимум, задирание кверху зарплаты и всяческое «улучшение условий труда», а как максимум — национализация. Со статуей сложнее. Для людей, хотя бы немного понимающих, как оно всё устроено в этом мире, огромное значение этого обстоятельства очевидно. Разумеется, Ли Куан Ю тоже всё прекрасно понимал. Именно поэтому в своих мемуарах он откомментировал сохранение статуи в скептико-ироническом ключе: дескать, сохранить памятник было нетрудно и т.п. Боюсь, что наш читатель не вполне оценит этот момент.
Так или иначе, Винсемиус взялся помогать Сингапуру[11]. И для начала – создал в городе-государстве мировой финансовый центр. Ну то есть создал условия, чтобы он там появился.
Эта история такого рода, что даже сам Ли Куан Ю вынужден был назвать её в своих мемуарах «неправдоподобной». Поскольку она и в самом деле такова, позволю себе обширную цитату из всё той же книжки премьера — «Из третьего мира в первый»:
«Доктор Винсемиус вспоминает, как в 1968 году он позвонил своему другу, вице-президенту сингапурского отделения «Бэнк оф Америка» (Bank of America), который был тогда в Лондоне: «Господин Ван Онен (Van Oenen), мы (Сингапур) хотим в пределах следующих 10 лет стать финансовым центром Юго-Восточной Азии». Ван Онен ответил: «Хорошо, приезжайте в Лондон. Вы сможете добиться этого в течение 5 лет». Винсемиус немедленно выехал в Лондон, где Ван Онен подвел его к большому глобусу, стоявшему в зале заседаний, и сказал: «Взгляните: финансовый мир начинается в Цюрихе. Банки Цюриха открываются в 9:00 утра, чуть позже открываются банки во Франкфурте, еще позже — в Лондоне. После обеда банки в Цюрихе закрываются, затем закрываются банки во Франкфурте и в Лондоне. В это время банки в Нью-Йорке еще открыты. Таким образом, Лондон направляет финансовые потоки в Нью-Йорк. К тому времени, когда после обеда закроются нью-йоркские банки, они уже переведут финансовые потоки в Сан-Франциско. К тому времени как закроются банки в Сан-Франциско, до 9:00 утра швейцарского времени, когда откроются швейцарские банки, в финансовом мире ничего не происходит. Если мы расположим Сингапур посредине, то, до закрытия банков в Сан-Франциско, Сингапур сможет принять от них эстафету, а когда закроются банки в Сингапуре, они смогут перевести финансовые потоки в Цюрих. Таким образом, впервые в истории, станет возможным глобальное круглосуточное банковское обслуживание».
Всякий, кто посмотрит на глобус, может убедиться, что Сингапур не был единственным вариантом размещения банкирского гнезда. Но почему-то только Сингапур ухватился за эту идею. В настоящее время стране насчитывается свыше 130 мировых банков, из них более 80 — коммерческие. По числу представительств международных финансовых организаций Сингапур занимает 3 место в мире после Лондона и Нью-Йорка. Условия обслуживания — как в Швейцарии в лучшие её времена: всё быстро, чисто, анонимно.
Таким образом, Сингапур получил доступ к твёрдой валюте — то есть решил основную проблему, с которой сталкивается любая страна, желающая развиваться. Осталось начать да кончить: создать конкурентоспособную промышленность.
Здесь у Ли Куан Ю был свой козырь в рукаве: умение работать с профсоюзами и понимание того, насколько это вредные организации. В большинстве стран «третьего мира» профсоюзы являются рассадниками левых взглядов и используются для торпедирования какого бы то ни было развития. Однако сингапурские законы позволяли давить на корню всё, что хотя бы отдалённо походило на коммунизм. Что касается конструктивной стороны, то курс был взят на Японию, где профсоюзы стоят на стороне властей.
Начинал Сингапур с производства самых простых вещей. И с жесточайшей протекционистской политики: всё, производимое в Сингапуре, защищалось запредельными таможенными пошлинами. Это позволило хоть как-то сохранить производство. Разумеется, когда это стало не нужно, тарифы отменили – ровно тогда, когда товары стали конкурентоспособными.
Одновременно страна занималась обхаживанием иностранных инвесторов и промышленников. В первые 10 лет независимости иностранные компании на пять лет освобождались от подоходного налога, импортных пошлин на сырье и оборудование, получали возможность ускоренной амортизации и т.п.
Что касается направлений развития, то здесь оказались полезны советы доктора Винсемиуса по части тех областей экономики, куда стоит вкладывать средства. Это ремонт кораблей, буровые платформы, машиностроение, химическая промышленность, производство электрооборудования. Всё это оказались плодоносящие деревья: ни одна отрасль, в которую советовал вкладываться добрый доктор, не загнулась.
Как проводилась индустриализация? Ли Куан Ю говорит об этом без обиняков: «Наше экономическое развитие и индустриализация протекали успешно, потому мы занимались планированием… Правительство взяло на себя инициативу основания новых отраслей… Мы верили в наших молодых служащих, в их честность, интеллект, энергию, пусть даже и при полном отсутствии делового опыта. Из каждого выпуска мы отбирали и посылали лучших выпускников наших школ в лучшие университеты Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Франции, Италии, Японии, а впоследствии, когда у нас появились средства, — США. Мы вырастили из них наших собственных предпринимателей.»
Конкретику хорошо будет показать на примере двух отраслей: нефтепераработки и туризма.
Когда Россию называют бензоколонкой, это незаслуженный комплимент. Российская Федерация торгует в основном газом и сырой нефтью, а не бензином. А вот Сингапур, не имея никаких полезных ископаемых, бензоколонкой как раз является. Как писал сам Ли Куан Ю, «к началу 90-ых годов, располагая предприятиями по переработке нефти общей мощностью 1.2 миллиона баррелей в день, Сингапур стал третьим крупнейшим мировым центром нефтепереработки после Хьюстона (Houston) и Роттердама (Rotterdam); третьим крупнейшим мировым центром торговли нефтью после Нью-Йорка и Лондона; самым большим в мире центром торговли мазутом».
Отрасль с самого начала развивалась под жесточайшим контролем правительства и под патронажем лично премьера. Когда случился нефтяной кризис 1973 года, Ли Куан Ю лично давал гарантии поставщикам нефти, что правительство не наложит лапу на их запасы.
Туристов Сингапур пытался привлечь с самых первых дней независимости. Одной из причин было то, что туристическая отрасль является показателем и одновременно средством подъёма качества жизни вообще. Массовый турист не поедет в страну, полную достопримечательностей, если там грязно, уныло, плохо кормят и небезопасно ходить по улицам. Он поедет туда, где из достопримечательностей есть пара красивых пейзажей, зато имеются чистые улицы, хорошие рестораны и где банда подростков не подрежет сумочку и не заставит расстаться с кошельком. Что принесёт соответствующей стране деньги — и стимул становиться ещё более привлекательной для внешнего мира, а значит, и для самой себя.
За дело взялись всерьёз. Например, Агентство по развитию туризма провело ряд кампаний, направленных на повышение уровня вежливости и улучшению качества обслуживания. Ли Куан Ю в это дело включился лично. Рассудив, что абсурдно, когда люди вежливы только с туристами, а не друг с другом, он, по его же словам, «заставил министерство обороны, отвечавшее за военнослужащих, министерство просвещения, которое заботилось о полумиллионе студентов, и НКПС, в который входило несколько сот тысяч рабочих, проводить разъяснительную работу с населением. Вежливость должна была стать частью нашего образа жизни, сделать город более приятным местом для жизни жителей Сингапура, а не только для туристов».
Или, скажем, озеленение города. Сингапурцы выжали из своего жуткого климата (влажная жара) всё что можно — завезли на остров 8000 разных видов тропических растений. Выжило около 2000. Зато появилось, на что посмотреть на улицах.
С достопримечательностями у сингапурцев было, правда, не очень. Но и тут своими советами помог доктор Винсемиус. Он предложил сделать туристический рай из того самого острова Сентоза, где когда-то была британская военная база. Остров вообще-то хотели сделать промышленным центром, но доктора послушали. И не прогадали. Оказалось, что уцелевшая армейская инфраструктура поддаётся конверсии. Казармы стали студенческим городком, штаб британского командования — моднейшим клубом, авиабазу расширили и превратили в международный аэропорт.
Всё это было действиями государства. Вообще, никакой бизнес в Сингапуре не мог бы подняться без охраняющей государственной руки. Так что опять же: если какой-нибудь отечественный либерал начнёт заливать про блага свободной торговли, неограниченного рынка, отсутствия госвмешательства и т.п. и ссылаться при этом на сингапурский опыт — в глаза плюйте ему.
Сейчас, конечно, уже не то, В настоящий момент Сингапур — это «столица ТНК» и «гавань иностранного капитала». В 1997 году в Сингапуре работало более 200 одних только американских компаний, инвестировавших более 19 миллиардов сингапурских долларов. Не отстают британцы, европейцы и прочие. Почему бы и нет, если всё налажено, условия созданы и т.п.?
Теперь о том, какой ценой всё это достигнуто.
В отличие от той же Чили или Южной Кореи, где экономический рывок (настоящий, как в Корее, или сомнительный, как в Чили) обеспечивался военной диктатурой, Сингапур всё это время оставался демократией. С очень и очень серьёзными ограничениями — например, никакой свободы слова на острове не существует, левые партии запрещены, разгромлены или загнаны в подполье и т.д. — но всё же на острове регулярно проводятся выборы, существует легальная оппозиция, меньшинства имеют гарантированное представительство и права[12] и т.п. Тем не менее, лидирующая роль Партии Народного Действия очевидна и не подвергается сомнениям.
Если о технике дела. Сингапур — парламентская республика. Законодательная власть принадлежит однопалатному Парламенту (83 депутата). Парламент избирается всеобщим прямым голосованием по мажоритарной системе сроком на 5 лет. Ряд депутатов вводится в Парламент по особым правилам. Президент раньше избирался Парламентом на 4 года, с 1993 – всеобщим голосованием сроком на 6 лет.
Премьер-министром становится лидер победившей на выборах партии. Так что достаточно выиграть выборы. ПНД выигрывала их абсолютно — то есть от оппозиции проходило не более одного-двух депутатов, и то не всякий раз.
Сам Ли Куан Ю объясняет это популярностью проводимой им политики и успешной политтехнологической работой самой партии, которая никогда не оставляла избирателей наедине с оппозицией. Сюда также можно добавить продолжающееся действие Акта о внутренней безопасности, который позволяет убрать с политического поля любого человека по достаточно расплывчатым поводам — что нейтрализует радикальных политиков. И наконец, сингапурцы привычны к дисциплине.
Об этом стоит поговорить особо.
Ли Куан Ю всегда придерживался той точки зрения, что людям не следует давать слишком много воли. Самым простым способом держать человеческие пороки в узде он считал запреты и централизованные политические кампании: первые отвращают людей от плохого, вторые направляют к хорошему.
Чтобы понять, как это работает, стоит упомянуть самую известную кампанию — а именно, поэтапное наведение в Сингапуре образцовой чистоты и порядка.
Вот что писал советский корреспондент, оказавшийся в Сингапуре в 1981 году[13]:
«Два раза в день — поздним утром и часа в три-четыре — во дворе звякал велосипедный звоночек, и затем булькающий баритон почтаря тамила Балагуру провозглашал: «Почта!» Писем, извещений, рекламы приходило немало. И на каждом конверте стоял штемпель почтового ведомства. Штемпеля сообщали то о фестивале культуры и искусства, то о молодежной спартакиаде, то об открытии научного центра, то о выставке орхидей — этот тропический цветок давно уже стал визитной карточкой республики. Штемпеля привлекали внимание и к общественным кампаниям: они в Сингапуре сменяют друг друга постоянно. Одна из них — «Сохраним Сингапур в чистоте», «Избавим город от загрязнения и москитов», «Чистый город — здоровый город» — к моменту приезда в 1971 году в страну была уже на исходе. И штемпеля с подобными призывами случались все реже… Спустя некоторое время родился новый призыв, и не только на почтовых штемпелях. Стоило снять телефонную трубку, набрать службу времени, как голос в трубке вопрошал: «В безопасности ли ваш дом? Хорошо ли закрыта дверь?» И только после предупреждения автомат сообщал точное время. «Сделаем Сингапур свободным от преступлений»,— взывали афиши на улицах и надписи на машинах… В печати сообщалось о выставке под девизом «Безопасная квартира»».
Дальше рассказывалось о компании за сокращение рождаемости (сопровождаемой запретами и административными наказаниями) и компании против наркотиков. Советский корреспондент — не из самой свободной страны мира, скажем так — воспринимал всё это с недоумением: ну зачем жители бананово-лимонного острова портят себе жизнь такими глупостями?
Товарищ не застал дальнейшего. Количество запретов и компаний только возрастало, и особенно это касалось «глупостей». В семидесятые, например, был введён запрет рекламы сигарет и запрет на курение во всех общественных местах (штраф от 200 до 1000 сингапурских долларов). Сейчас это кажется чем-то нормальным, но по тем временам это была дикость. Тем не менее, премьер настоял на своём. Тогда же были запрещены — еда и питьё в общественном транспорте (500 SGD), плевки на улице (штраф 500 SGD, при рецидивах он повышается до 5000), кормление птиц (1000 SGD), а также несмывание за собой в общественном туалете (150 SGD).
Но самым известным стал запрет в 1992 году жевательной резинки. Как говорит сам Ли Куан Ю, они собирались сделать это ещё в 1983, потому что некие хулиганы заклеивали резинкой замочные скважины, кнопки лифтов и датчики метро. В конце концов – когда Ли Куан Ю уже ушёл со своего поста – его преемник Го Чок Тонг резинку всё-таки запретили. Штраф за ввоз жвачки — 100000 сингапурских доллара[14].
Штрафами, однако, дело не ограничивается. Сингапурское законодательство — крайне жёсткое — позволяет применять к нарушителям тюремное заключение, а к мужчинам до 50 лет — ещё и битьё. Да-да, в Сингапуре практикуются телесные наказания[15]! Казалось бы, одного этого достаточно, чтобы против острова ополчилась вся прогрессивная общественность. Но Сингапур слишком хорошее место, чтобы против него ополчаться. Всемирную известность получил только один случай — в 1994 году американский подросток Майкл Фей был приговорён за вандализм к 10 ударам. Президент США Клинтон лично умолял отменить наказание, но сингапурские власти пошли только на то, чтобы смягчить его — 4 удара вместо 10.
Это далеко не все запреты. Есть очень специфические, которые и в голову-то придут не сразу.
Например, в Сингапуре нельзя свободно купить машину. Количество машин должно быть таким, чтобы выдерживала дорожная сеть. Право купить машину — certificate of entitlement — можно купить. Его стоимость обычно равна цене самой машины, а то и выше, и действует оно десять лет. Поэтому старых машин в Сингапуре нет: невыгодно. То же касается рынка жилья. С самого начала Ли Куан Ю поощрял частное владение жильём, так как считал — и правильно — что владение недвижимостью способствует лояльности. Однако рынок недвижимости не просто зарегулирован, а практически запрещён. С 2008 года каждый, кто купит частное жилье и продаст его на следующий год, вынужден будет уплатить 16% от стоимости продажи, а каждый, кто продаст государственное жилье и купит себе новое, уплатит 24% налога со старого дома. И так далее: в Сингапуре очень много всяких нельзяшек.
Можно было бы ожидать, что от таких стеснений граждане начнут пить, принимать наркотики и всячески разлагаться. Власти это тоже понимают — так что цены на спиртное и табак в Сингапуре очень высоки[16], продажа ограничена[17]. А за изготовление, торговлю и распространение наркотиков полагается смертная казнь — старое доброе повешение.
Кстати о судебных практиках. Суд в Сингапуре напоминает российский — то есть он строго на стороне обвинителя. Практики досудебного ознакомления с делом не существует, защита не знает, что обвиняемый говорил на допросах. Показания, сделанные на допросе, принимаются без разговоров — в том числе в делах, где возможно вынесение смертного приговора. К смертной казни можно быть приговорённым на основании косвенных улик. Суд присяжных Ли Куан Ю бесконечно презирал — в значительной мере потому, что в молодости был адвокатом и отмазывал всякую сволочь, манипулируя присяжными. Так что здесь такого суда нет вообще[18].
Думаю, понятно, как обстоят дела в Сингапуре со свободой слова и собраний. Пресса контролируется государством, чем Ли Куан Ю гордился[19]. Что касается собраний, то на любое публичное мероприятие необходимо разрешение. Единственное исключение — уголок ораторов в парке Хонг Лим.
Сингапурская система является типичным случаем «большого правительства», а сам Сингапур часто называют «государством-нянькой» (Nanny State). Смысл в этой метафоре есть. Правительство Сингапура и в самом деле относится к населению как к детям. Которых нужно хорошо кормить, а иногда и баловать — но ни в коем случае не давать им слишком много воли. И, разумеется, самые важные решения должны принимать за них взрослые.
Сам Ли Куан Ю высказывался на эту тему более чем откровенно. В одном из поздних интервью он сказал:
«Как бы вы ни начинали, какой бы открытой и меритократичной ни была система [меритократия — правление достойных], по мере развития население расслаивается. Люди получают образование, способные поднимаются, они женятся на таких же хорошо образованных. В результате их дети, скорее всего, будут умнее, чем дети садовников. Я не хочу сказать, что все дети садовников или рабочих — никчемные люди. Иногда от двух серых лошадей появляется белый жеребенок, но это редкость. Если у вас две белые лошади, скорее появится белый жеребенок. Об этом редко говорят открыто, потому что те, кто не является белыми лошадьми, говорят: «Вы нас унижаете». Но это факт. Если у вас белая кобыла, вы не захотите, чтобы с ней скрещивался никчемный жеребец. Тогда потомство будет плохое. Ваши умственные и эмоциональные возможности и все остальное на 70 — 80 процентов обусловлены генетически. Вам только нужно время созреть, и все. От 20 до 30 процентов обусловлено воспитанием и образованием. Это жизнь.»
Слова у Ли Куан Ю с делами не расходятся. Он предпринял меры, чтобы белый жеребец покрывал белую кобылку.
Достигший успеха азиатский мужчина чаще женился не на умной женщине, а на красивой и покорной. В результате к началу восьмидесятых только 30 % сингапурцев с высшим образованием были женаты на женщинах с высшим образованием. Две трети выпускниц университетов оставались незамужними. С другой стороны, низшие классы общества плодятся быстрее и охотнее, чем высшие.
Вечером 14 октября 1983 года, в выступлении по телевидению по поводу Национального праздника Сингапура, Ли Куан Ю сделал заявление, которое, по его же словам, «произвело эффект разорвавшейся бомбы». Он заявил, что у умных и образованных мужчин должны быть такие же жёны. Для решения этой проблемы были созданы особые брачные агентства. Первый было «Агентство социального развития» (АСР — Social Development Unit). Его задачей было организовать общение между интеллектуалами и интеллектуалками с целю создания семьи. Каковое поощрялось финансово: семьям интеллектуалов выдавался жилищный кредит, а в случае рождения четвёртого ребёнка – особые поощрения[20]. Второе агентство занимается людьми со средним образованием. Наконец, малограмотным женщинам тоже полагался бонус: стерилизация после рождения второго ребёнка в обмен на жилищные льготы… Вообще-то подобная практика называется евгеникой и в любом другом государстве тут же вызвала бы вой либеральной общественности по части «сегрегации», а то и «фашизма».
Но с маленьким успешным государством либералы почему-то не воюют (или воюют так, чтобы это ничему не мешало).
Теперь подведём итоги. Ли Куан Ю вместе со своей партией семь раз подряд побеждал на выборах. Он ушёл в отставку в 1990 году, побив мировой рекорд пребывания на премьерской должности. Однако у власти он остался — в качестве «старшего министра» в правительстве Го Чок Тонга, а потом — министром-наставником[21] в правительстве Ли Сянь Луна, своего старшего сына[22]. По поводу этого последнего обстоятельства — «наследования престола» — сам Ли Куан Ю высказывался несколько нервно, настаивая на том, что его сын занял это место по праву.
В марте 1996 года Ли Куан Ю перенес операцию на сердце. Операция оказалась успешной. Архитектор сингапурского чуда успел застать XXI век и полюбоваться на его чудеса — и на успех сотворённого им чуда. Он умер 23 марта 2015 года.
Тем интереснее мнение тех, кого успех Сингапура не впечатлил.
Пожалуй, самым известным текстом, критикующим сингапурские порядки, является статья Уильяма Гибсона, знаменитого писателя-фантаста, основателя киберпанка, опубликованная в журнале «Wired» в 1993 году. Называлась она «Диснейленд со смертной казнью» — и эта фраза с тех пор стала самым известным негативным слоганом, описывающим сингапурские порядки.
Гибсона трудно обвинить в несовременности. Однако Сингапур вызвал у него ужас. Он описывал стерильную чистоту его улиц, отсутствие граффити на стенах домов, стандартный ассортимент магазинов, и общий дух уныния, фоном которого служат сообщения об очередных казнях коррупционеров и наркоторговцев. Гибсон пишет о стерильности города, об отсутствии в нём души. И о том, как он с облегчением ослабил узел галстука, когда его самолёт покинул воздушное пространство Сингапура.
Но что значат слова писателя по сравнению с оценками профессионалов, мировых политиков, делателей истории?
А они неизменно восторженны.
«Ли — это «одна из легендарных личностей Азии в XX и XXI веках. Он один из тех, кто помог дать старт азиатскому экономическому чуду» — это сказал великий Барак Обама.
«На протяжении моей долгой жизни на государственной службе я встречался со многими умными и способными людьми. Но никто не производил большего впечатления, чем Ли Куан Ю» — а это Джордж Буш, 41-й президент США.
«Ли является умнейшим руководителем, каких, как полагаю, я когда-либо встречал» — это слова великого Тони Блэра.
«Работая на своем посту, я читала и анализировала каждую речь Ли. У него была способность проникать через туман пропаганды и высказываться с уникальной ясностью о проблемах нашего времени и путях их урегулирования. Он никогда не ошибался» — это сказала великая, величайшая Маргарет Тэтчер. А вообще — кто его только не нахваливал.
Здесь, наверное, должна быть какая-то мораль. Например: терпение и труд всё перетрут. Или: добродетель вознаграждается, если это правильная добродетель. Или… но, в общем, морали в этой истории тут хватит на всех.
Мне же пришло на ум вспомнить немного подзабытого сэра Раффлаза. Мы как-то мало внимания уделили его пребыванию в Лондоне. Вынужденный вернуться в 1824 году из жарких стран, он успел прославиться и в столице империи — как учёный-востоковед, знаток истории и культуры Юго-Восточной Азии, а также как зоолог. Именно он основал Лондонское зоологическое общество и — last not least — Лондонский зоопарк.
Англичане любят животных. Это многое объясняет.
________________________________________Примечания:
[1] Эту фразу — с указанием имени автора — не без ехидства воспроизводит сам Ли Куан Ю в своей книге «Сингапурская история: из третьего мира в первый».
[2] Примерно теми же соображениями руководствовались большевики, уничтожавшие русское крестьянство: оно, будучи средой традиционной, чрезвычайно мешало их преобразованиям. Цель их, однако, была противоположна тому, что происходило в Сингапуре: если там из азиатов делали европейцев, то большевики из европейского, в общем-то, населения, делали то, что можно назвать недоазиатами: население азиатизированное, но без азиатских достоинств и умения выживать в азиатской среде. Неудивительно потому бешеное преуспеяние в СССР разного рода дикарей с их простыми умениями — клановостью, сплоткой, умением льстить и подмазывать начальство и т.п. Советские русские были лишены даже этого.
[3] Тем не менее, аграрное население всё-таки доставило проблемы. Когда правительство чистило остров от мелких фермеров с их грязными хозяйствами, те отвечали ненавистью. Никакие материальные компенсации не помогали. Как констатирует сам Ли Куан Ю: «Фермеры старшего поколения не знали, чем заниматься и что делать с полученной компенсацией. Живя в квартирах, они скучали по своим свиньям, уткам, курам, плодовым деревьям и грядкам с овощами, которые снабжали их бесплатной пищей. Даже через 15–20 лет после переселения в новые районы многие все еще голосовали против ПНД. Они считали, что правительство разбило их жизнь». В другом месте он описывает бывших фермеров, державших в городских квартирах свиней и уток — иногда десятилетиями.
[4] Еловацкий И.П. Страны Юго-Восточной Азии. Экономико-географический очерк. Пособие для учителей. — М.: «Учпедгиз», 1961. Книга использовалась в качестве дополнительного пособия для преподавателей географии.
[5] 30 сентября 1965 года в Индонезии произошёл военный переворот — точнее, попытка военного переворота (по утверждению победившей стороны, прокоммунистического) и приход к власти правых военных. За этим последовали меры, в ходе которых население страны уменьшилось — по некоторым данным, на два миллиона человек, в основном китайцев, считавшихся коммунистами по определению. Новый режим вёл довольно бодрую и даже агрессивную внешнюю политику — например, в 1975 Индонезия захватила Восточный Тимор. В Сингапур они тоже лезли, и весьма серьёзно — например, засылали террористов.
[6] Именно эти принципы лежит в основе оборонных доктрин большинства малых государств. Блестящие исключения — вроде Шестидневной Войны — в данном случае только подтверждают правило.
[7] Постоянных резидентов призывают, начиная со второго поколения. Пример: отец приехал из Петербурга преподавать теорию вероятности, сын уже должен пойти отслужить.
[8] Для сравнения: Израиль — 79.2 на 1000, Индия — 3.9, Финляндия — 76.4, США — 7.3, Россия — 24.6. По этому параметру его сейчас превосходит только Северная Корея (невероятные 308,5), Куба (107,8) и Южная Корея (128,7).
Что такое резерв, можно почитать здесь:
http://sglah.livejournal.com/2634.html . Вкратце: армия не оставляет человека лет десять. Каждый сингапурский мужчина в цветущем возрасте должен быть готов встать под ружьё. Для чего – быть подтянутым и регулярно сдавать нормативы.
[9] Сейчас на вооружении сингапурской армии 420 самолётов и вертолётов, что превышает возможности любого европейского государства, кроме России.
[10]Это не шутка. Сингапурская армия вынуждена тренироваться в Австралии, Франции, США на Тайване и проч.
[11] Ну то есть как помогать. Винсемиус консультировал Ли Куан Ю до 1984 года, посещая Сингапур дважды в год. Однако он круглогодично получал документы, отчёты и вообще «работал с информацией». В некоторых случаях этого достаточно.
[12] Существует несколько систем, гарантирующих права меньшинств. Например, в Сингапуре не запрещено создание партий и организаций «по национальному и религиозному признаку» — то есть открыто выражающих интересы определённых групп населения. Есть также система национальных квот, не официальная, но работающая. Наконец, даже правовая система (основанная на британском праве, разумеется) учитывает традиционное индийское и мусульманское право в ряде вопросов — например, шариатский суд по делам брака и развода для мусульманской общины.
[13]Савенков Ю. На семи ветрах // «Вокруг Света», 1981, № 8.
[14] В настоящий момент жвачку снова разрешили — исключительно в целях борьбы с кариесом, то есть только лечебную.
[15] Стоит напомнить, что сам Ли Куан Ю подвергался порке — в школе и дома. Он описывал это так: «Я наклонился через стул и, прямо как был, в штанах, получил три незабываемых удара по тому самому месту». Откомментировал он это так: «Я никогда не понимал, почему западные педагоги-методисты выступают против телесных наказаний. Ничего страшного ни со мной, ни с моими однокашниками не случилось».
В настоящее время поркой наказывается около 40 видов преступлений — начиная от покушения на убийство и вооружённого ограбления и кончая вандализмом. Приговор исполняется специалистом, специальной ронанговой палкой установленного размера (1 м. 20 см.) по обнажённым ягодицам. По свидетельствам прошедших наказание, эта процедура крайне болезненна.
[16] Пачка сигарет стоит от 8 до 15 долларов, бутылка пива в магазине — от 8 долларов, бутылка вина — от 25 долларов.
[17] Распитие любых спиртных напитков запрещается в общественных местах ежедневно с 22:30 до 7:00, кроме того, в эти же часы магазины приостанавливают продажу данной продукции. Особое внимание обращено к неблагоприятным с точки зрения общественной безопасности районам Сингапура — Гейлангу и «маленькой Индии», населенной преимущественно выходцам из Южной Азии. В этих местах распитие спиртных напитков запрещается с 7:00 субботы до 7:00 понедельника. См. http://www.mk.ru/social/2015/04/01/v-singapure-uzhestochili-pravila-prodazhi-alkogolya.html
[18] Его отменили в 1959 году, хотя по делам, где возможен смертный приговор, он сохранялся до 1969 года.
[19] «Свобода прессы, свобода СМИ, должна быть подчинена первостепенным нуждам целостности Сингапура», — неоднократно говорил Ли Куан Ю.
Во Всемирном Индеке свободы прессы, публикуемом организацией «Репортёры без границ» от 2016 года, Россия находится на 148-м месте, а Сингапур — на 154.
[20]Например, налоговые льготы.
[21] Должность была создана лично для Ли Куан Ю и отменена после его ухода.
[22] Родился в 1952 году. Образование: Командно-штабной колледж армии США, Гарвардский университет, Правительственная школа Джона Ф. Кеннеди и Тринити-колледж (Кембридж). По образованию математик. Отслужил в сингапурской армии. Был министром торговли и промышленности и министром финансов. Председатель Партии Народного Действия. Идейный и убеждённый продолжатель дела отца.
Почему Америка богаче всех?
Алексей Калмыков Би-би-си
8 октября 2018
https://www.bbc.com/russian/news-45767456


Ученые из самой богатой страны на планете вновь получили Нобелевскую премию по экономике - за то, что приблизили мир к пониманию природы этого богатства и объяснили, как сделать так, чтобы жизнь людей улучшалась повсюду и постоянно, а не кое-где циклами и с перерывами на кризисы.
Юбилейный 50-й приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, достался американцу Уильяму Нордхаусу из Йельского университета и его соотечественнику Полу Ромеру, бывшему главному экономисту Всемирного банка.
Их работы пролили свет на две "фундаментальные и неотложные проблемы планеты" и главное — проблемы глобальные, требующие общемирового подхода в течение десятилетий. Потому они и заслуживают Нобеля, решила Шведская королевская академия наук.
Русская служба Би-би-си объясняет, что дали миру лауреаты: кратко (в 100 словах на 20 секунд чтения) и подробнее (на 500 слов и пару минут).
Ромер и Нордхаус продвинули науку на шаг к решению главного вопроса: почему растет экономика и как сделать так, чтобы рост был устойчивым и повсеместным. Это позволило бы искоренить бедность и неравенство.
Ромер развил теорию о том, что в основе роста лежит технологический прогресс, и доказал, что лучшая среда для рождения технологий — рыночная экономика с элементами госрегулирования.
Нордхаус объяснил, как связаны выбросы парниковых газов с экономическим развитием и как подсчитать, насколько ухудшится благосостояние людей в результате климатических изменений.
Загадка мирового экономического роста далека от разрешения. Однако Ромер и Нордхаус сложили части пазла и заложили научный фундамент для политических решений, призванных сделать повышение уровня жизни постоянным и необратимым.
Ромер и Нордхаус изучают долгосрочные тенденции в экономике: их волнуют века и десятилетия, а не краткие цикличные изменения. С высоты птичьего полета они определяют проблемы, которые, накапливаясь, несут вред или пользу. И создают модели, которые позволяют властям вовремя скорректировать политику, чтобы не запускать болезнь.
О том, что "дикий" капитализм и свободный рынок не являются оптимальной средой для прироста всеобщего богатства и благополучия, писал еще в 1920 году британский экономист Артур Пигу в "Экономической теории благосостояния". Перегибы должно регулировать государство: вводить субсидии и льготы для поощрения полезных отклонений, налоги и запреты - для купирования вредных.
Но одно дело — диагностировать недомогание и предупредить, что со временем оно перерастет в серьезное заболевание, а другое — точно определить методы лечения. Вот этим и прославились Нордхаус и Ромер.
Они - по отдельности, каждый в своей области — построили научные модели, которые позволяют экономистам относительно точно рассчитать, что делать политикам и чиновникам для исправления перекосов в экономике, которые не регулируются рынком.
Специализация Нордхауса — неблагоприятные природные факторы, от которых страдает экономика и падает уровень жизни. Он создал модели для оценки того, как выбросы парникового газа и изменения климата сдерживают развитие. Теперь они используются повсеместно.
Ромер, напротив, занят оценкой факторов благоприятных: он отвечает на вопрос, при каких условиях в мире чаще появляются новые идеи и технологии и каким именно образом они подстегивают экономический рост.
О том, что технологический прогресс служит источником роста экономики, поведал миру еще в 1950-х другой американец, нобелевский лауреат Роберт Солоу. Ромер заполнил дыры в его теории. Он объяснил, почему не все страны выигрывают одинаково, и доказал, что рыночные экономики способствуют технологическим прорывам.
Одновременно он показал, что от новых технологий выигрывают все, а не только их разработчики, однако с важными оговорками.
В частности, для прорыва нужна финансовая мощь, а она есть только у крупных компаний и монополий. Кроме того, базовые исследования прибыли не приносят, и потому их лучше всего делают университеты, а не рыночные фирмы.
Из этого следует главный вывод: в условиях абсолютно свободного рынка технологический прогресс будет неэффективным, его необходимо регулировать на уровне стран и всего мира. Ограничивать монополии, защищать авторские права, способствовать развитию университетов, вводить льготы для тех, кто инвестирует в исследования и разработки.
Ромер доказал, что экономический рост, основанный на накоплении идей и технологий, устойчивее роста, движимого накоплением физического капитала.
"Ответ на вопрос - почему передовые экономики продолжают быстро расти даже тогда, когда капитал уже находится на оптимальном уровне, а население не увеличивается", — объяснил премию Ромеру экономист Константин Сонин в своем блоге.
"Ромер построил первую модель эндогенного — движимого техническим прогрессом — экономического роста; без этих моделей невозможно было бы объяснить рост развитых стран во второй половине ХХ века", — пишет Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики.
А Шведская королевская академия наук так определила место Ромера и Нордхауса в истории молодой экономической науки.
"Вопрос о том, как человечество справляется со скудностью ресурсов, — краеугольный камень экономики как научной дисциплины, и со дня ее зарождения считалось, что в основании этой проблемы лежат природа и знания. Природа определяет условия, в которых мы существуем, а знания — нашу способность приспосабливаться к ним", — пишут академики в нобелевской публикации.
"В то же время, несмотря на центральную роль этих факторов, экономисты до сих пор обходили стороной вопрос о том, какое влияние на природу и знания оказывают экономические субъекты и рынок. Лауреаты этого года Пол Ромер и Уильям Нордхаус расширили простор для экономического анализа и дали нам инструменты, позволяющие определить долгосрочное воздействие рыночной экономики на природу и знания".
Интервью Пола Ромера журналу "Форбс АСАП"
1990 год
http://connect.design.ru/n5_96/theory.html
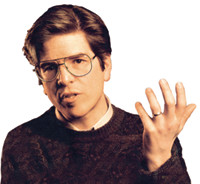
— В чем новизна теории нового роста?
— Она противостоит теории роста, которая появилась в 1950-60-х годах. Люди считают, что развитие технологии — дело случая: если ты пытаешься сделать открытие, то можешь или потерпеть неудачу, или преуспеть. Из этого следует вывод, что технология появляется как манна небесная, абсолютно бесконтрольно.
Теперь совершенно очевидно, что этот логический вывод ошибочен. Возьмем для примера золотоискательство. Для вас, отдельно взятого человека, шансы найти золото так малы, что, если вы его все-таки найдете, это будет для вас приятным сюрпризом. Но если у вас есть 10000 человек, которые ищут золото на большой территории, шансы найти его резко возрастают.
Для общества в целом открытие — золота или технологий — является функцией затраченных усилий. Теория нового роста пытается формализовать эту идею.
— Не могли бы вы изложить суть теории популярно?
— Она содержит два глубоких посыла. Один из них состоит в том, что новая экономика в большей степени основана на идеях, нежели на предметах. Нужна совершенно иная институционная инфраструктура, совершенно иная система ценообразования и т.д., чтобы идеи использовались наиболее продуктивным образом.
— Может, поясните?
— Хорошо, возьмем апельсины как пример обычного продукта-предмета. Есть стоимость их производства, в которую входят затраты на регулярный вывод части земли из оборота для посадки новых деревьев, на сбор урожая и т.д. И стоимость каждого последующего апельсина примерно такая же, как и предыдущего.
Теперь возьмем известный химический процесс — полимерную цепную реакцию, или ПЦР — как типичный пример продукта-идеи. ПЦР — это замечательно простая технология, позволяющая взять малое количество ДНК и умножить его. Вы помещаете молекулы ДНК в раствор, добавляете определенный энзим, нагреваете раствор и потом охлаждаете. С каждым циклом нагрева-охлаждения число молекул ДНК удваивается, и всего за полдня вы можете получить из пары молекул ДНК миллиарды молекул.
Чтобы получить первую ПЦР, были затрачены неимоверные усилия и средства. Но как только она была открыта, то сразу превратилась в обычную технологию. Ее описание можно было бы опубликовать в Интернете, и любой желающий в любой части света мог бы использовать ее, не неся при этом никаких дополнительных расходов.
Ключевое различие между предметами и идеями — между апельсинами и высокими технологиями типа ПЦР — состоит в следующем: предметы сохраняют постоянную стоимость за единицу продукции, тогда как идеи имеют огромную стоимость за первую единицу продукции и практически нулевую за каждую последующую единицу.
— Для чего же нужны институционные изменения?
— Потому что никто не станет изводить свои собственные средства на воплощение новой идеи, если ему не будет обеспечено монопольное право на нее. Монопольное право на ПЦР, обеспеченное одной фирме патентами, подвигло другие фирмы по всему миру делать свои собственные открытия.
— Но традиционная экономическая теория утверждает, что монополии — это плохо, не так ли? Не намекаете ли вы, что теория нового роста любит монополию?
— В традиционной теории монополия всегда плоха. А согласно теории нового роста, многие типы открытий просто обязаны сочетаться с монопольным правом.
— Таким образом вы переворачиваете традиционную теорию с ног на голову. Хорошо, а каков второй посыл?
— Второй посыл состоит в том, что существует необъятный простор для открытия новых идей. Позвольте мне пояснить этот момент с помощью математики.
Предположим, у вас есть простой производственных процесс, который требует установки на платформу 20 деталей. Вы можете устанавливать их по порядку: первая деталь, вторая, третья и т.д. Или установить сначала первую, потом седьмую, потом одиннадцатую, потом какую-то еще. Общее число всех комбинаций установки 20 деталей составляет 1018 — это примерно равно числу секунд, прошедших со времен Большого взрыва. То есть вы имеете поразительно большое количество разных возможностей даже в исключительно простых системах.
А теперь представьте себе набор вариантов в сборке автомобиля с тысячами деталей. Изыскивая наилучший вариант при таких больших числах, вы можете быть уверены в том, что самого лучшего варианта никогда не найдете. Обязательно останутся еще лучшие.
— Пример впечатляющий. Но как это связано с реальностью? Может ли управленец использовать это в своей работе?
— Пару десятилетий назад американские автомобилестроители верили, что знают о конвейерной сборке почти все. Работа американских заводов была построена на традиционных замерах времени и движений, и рабочие строго держались установленного порядка.
Потом японцы внедрили в рутинный процесс идею открытий. На японских конвейерах рабочим предложили понемногу экспериментировать со всеми операциями. Например, им разрешили приклеплять зеркало заднего вида к дверце, а затем устанавливать саму дверцу, а потом проделывать то же самое в обратном порядке и находить наиболее эффективный вариант. Со временем эти новации дали японцам большие преимущества перед конкурентами.
Сегодня и американские фирмы поощряют экспериментаторство. "Дженерал Электрик", в том числе, дает своим рабочим большую свободу действий.
— Глубокие изменения? Разве это не просто очередное полезное управленческое решение?
— Нет, это именно глубокие изменения. Пройдитесь по американским заводам и посчитайте работников, занятых той или иной формой изобретательства или дизайнерства. Вы увидите, что их стало гораздо больше, а относительная доля рабочих, занятых непосредственно производством как таковым, убывает. Перемены выглядят столь разительными, что некоторые люди начинают беспокоиться: "Что происходит у нас в стране? Производство исчезнет?
Но давайте задумаемся о сути материального производства в компании типа "Майкрософта" или на большой фармацевтической фирме. Производство здесь заключается в простом выполнении инструкций. "Майкрософт" тратит десятки миллионов долларов на разработку какого-либо программного кода. Но когда код готов, производство продукта выглядит почти что примитивно. Кто-то вставляет в машину флоппи-диски и делает копии, а потом кто-то еще пакует их в коробки и отправляет по назначению. На "Майкрософте" лишь очень малая часть рабочих занята непосредственно производством.
— И это имеет смысл?
— В этом нет ничего неэффективного или дурного. Мы видим здесь правильное распределение ресурсов, если учитывать огромные прибыли от новых открытий.
— Вы говорили о двух типах открытий: о маленьких регулярных улучшениях вроде тех, что могут делать рабочие на конвейерных линиях, и о крупных, революционных открытиях, таких как создание новых лекарств. Какой тип должен быть в центре внимания менеджеров?
— Оба.
Позвольте привести один пример.
В течение примерно 400 лет самым быстрым стилем плавания считался стиль, напоминающий современный брасс. На самом деле он был очень неэффективным, поскольку руки выносились вперед под водой. Потом, примерно в середине прошлого века, пловцы узнали, что коренные американцы и австралийские аборигены плавают, выбрасывая руки над водой.
Это было ключевое открытие. Пловцы стали экспериментировать с "новым" стилем. Но еще довольно много времени ушло на поиск правильного движения ног, поскольку "лягушачий" толчок не сочетался с работой рук. Только на рубеже веков пловцы-спортсмены освоили быстрый, легкий перебор вытянутыми ногами — это была вторая ключевая инновация.
С тех пор развитие кроля состоит из большого числа маленьких улучшений, таких, например, как проворачивание тела в воде вместо "плоского" положения. Даже сегодня продолжаются споры о том, как вести в воде ладони: толкая их прямо или поводя ими из стороны в сторону. Возможность для улучшения все еще существует.
Но суть в том, что оба типа открытий — ключевые и малые — сыграли свою роль в развитии современного плавания.
— Как насчет компьютеров? Какую роль они играют в открытиях?
— Относительно компьютеров есть два взгляда: менее и более радикальный. Менее радикальный взгляд оценивает компьютеры как большое открытие, подобное открытию электричества. Электричество стало для экономики настоящим шоком. Оно изменило всю систему, например вертикальную конфигурацию фабрик, которая диктовалась необходимостью разводить энергию от центрального источника через приводные ремни. Электромоторы можно было ставить по всему зданию и таким образом организовать производство горизонтально.
Но это был розовый шок. Когда электричество пронизало всю экономику, все успокоились и вернулись к своим занятиям.
Компьютеры могут произвести примерно такой же эффект, изменив все — от маленьких адвокатских контор до транснациональных корпораций. Но, может быть, и компьютеры окажутся розовым шоком.
А в чем состоит более радикальный взгляд?
Согласно этому взгляду, который я разделяю, компьютеры не являются розовым шоком. Они способны постоянно перераспределять баланс между производством и процессом поисков и открытий. Если эта посылка верна, то экономика в целом будет все больше походить на "Майкрософт" — с очень большой долей людей, занятых открытиями, а не производством. Это приведет к постоянным переменам в удельном весе открытий и показателях экономического роста.
— Значит, управленцы должны быть готовы к еще большим экономическим переменам, чем до сих пор?
— Да. На круги своя экономика, скорее всего, не вернется.
— К каким выводам приводит теория нового роста в том, что касается социальной политики?
— Правительство должно примириться с нарушениями в бизнесе, с серьезными дезорганизациями, с гораздо более быстрыми циклами подъема и падения компаний. Двадцать лет назад, когда компанию "Крайслер" вызволяли из долгов, позиция общества была однозначна: не дать этой гигантской корпорации рухнуть. Сегодня же мы хотим, чтобы IBM значительно ужалась или даже раздвинулась. Такого подхода и надо придерживаться.
Надо также быть готовым к тому, что весь жизненный цикл бизнеса будет значительно убыстряться. Firestone доминировал на рынке покрышек полвека, прежде чем начал приходить в упадок. "Майкрософту" может хватить половины этого срока. Я не удивлюсь, если через 10 лет "Майкрософт" начнет увольнять сотрудников, поскольку пропустит нечто новое.
— Как насчет налоговой и финансовой политики?
— Теория нового роста напоминает нам о том, что, возможно, некоторые акценты в этой политике расставлены неверно. Со времен Великой Депрессии экономическая политика сфокусирована в основном на бизнес-циклах. Правительство старалось оживить экономику, когда наблюдался спад. Оно пыталось удержать инфляцию в допустимых рамках, когда шел бум.
Теория нового роста утверждает, что за бизнес-циклом скрывается (и определяет его) другой процесс — процесс открытий и инноваций. Именно этот процесс ведет в перспективе к повышению уровня жизни. Если представить ситуацию графически, то экономический рост будет длинной восходящей линией, а бизнес-циклы — маленькими сопутствующими зигзагами. Кривизна этой линии, а не маленькие зигзаги, определяет, как высоко мы поднимемся.
— Итак, если мы хотим роста, то должны положиться на процесс открытий?
— Если мы перестанем искать новые идеи, то наша способность к росту будет серьезно ограничена. Идеи, весь процесс открывания нового — вот что является причиной роста.
https://ideanomics.ru/lectures/14710
Как страна может вырваться из своего бедственного положения, если она заключена в ловушку плохих правил? Экономист Пол Ромер выдвигает смелую идею «городов хартий», административные зоны городских масштабов, управляемые коалицией государств. (Может ли Гуантанамо стать следующим Гонконгом?)
Взгляните на эту фотографию. Она представляет для нас интересную загадку. Эти африканские студенты делают свою домашнюю работу при свете уличных фонарей аэропорта столицы, потому что дома у них нет электричества. Так вот, я не встречал именно этих студентов, но я встречал подобных им.
Давайте выберем одного из них. Например, того, что в зеленой футболке. Давайте также дадим ему имя — Нельсон. Готов поспорить, что у Нельсона есть мобильный телефон. И вот в чем загадка. Почему у Нельсона есть доступ к такой передовой технологии, как мобильный телефон, но нет доступа к технологии столетней давности — электрическому освещению дома?
Ответ — одно слово: «Правила». Плохие правила могут препятствовать внедрению решений, от которых все только выиграют, внедрению новых технологий и обеспечению доступа к ним людям, подобным Нельсону. Какие правила? Электрическая компания в этой стране работает согласно правилу, которое гласит, что она должна продавать электричество по очень низкой субсидированной цене. Фактически, цена настолько низкая, что компания теряет деньги при каждой сделке. Поэтому у нее нет ни ресурсов, ни стимулов для подключения других потребителей.
Президент хотел изменить это правило. Он видел, что можно создать другой набор правил. Правил, при которых бизнес сможет зарабатывать небольшую прибыль, и при которых у него будет стимул для подключения большего количества потребителей. Именно по такому правилу работает телефонная компания, у которой Нельсон приобретает телефонные услуги. Президент видел, как хорошо работают эти правила. И он попытался изменить правила ценообразования для электричества. Но он столкнулся с бурей протеста со стороны бизнеса, потребителей, которые хотели сохранить существующие субсидированные тарифы. Так он остался с правилами, которые мешали ему внедрить выгодное всем решение, помочь своей стране. И Нельсон продолжает заниматься при свете уличных фонарей.
Следовательно, реальная задача — попробовать придумать, как мы можем изменить правила. Есть ли какие-нибудь правила для изменения правил, которые мы можем изобрести? Я хочу показать, что существует общая теоретическая догадка, которую мы можем реализовать на практике, если сможем предоставить больше альтернатив людям и больше альтернатив лидерам, которые во многих странах тоже люди. Но полезно также сказать и о противостоянии между ними. Так как выбор, который мы хотим предоставить лидеру, например, выбор, который дает президенту возможность поднимать цены на электричество, отнимает альтернативу, предпочитаемую людьми в экономике. Они хотят иметь возможность продолжить потребление субсидируемого электричества. Поэтому, если вы дадите выбор только одной из сторон, вы получите напряженность или разногласия. Но если мы сумеем найти способы предоставить больше альтернатив обоим, это даст нам набор правил для изменения правил, который позволит нам выбраться из ловушек.
В настоящий момент у Нельсона есть также доступ в интернет. И он говорит, что если вы хотите увидеть разрушительные последствия правил, и то, как правила оставляют людей в темноте, взгляните на фотографии НАСА. Земля ночью. Обратите внимание на Азию. Если вы увеличите вот здесь, вы сможете увидеть Северную Корею, по очертаниям вот тут. По сравнению с соседями она похожа на черную дыру. Теперь вы не удивитесь, узнав, что правила в Северной Корее держат людей в темноте.
Но важно отдавать себе отчет в том, что Северная и Южная Кореи начинали с одинакового набора правил и в смысле законов и правил, и в смысле глубинного понимания норм, культуры, ценностей, убеждений. Когда они разделились, они сделали выбор, который развел их очень разными путями согласно их наборам правил. Итак, мы можем изменять — мы как люди — можем изменять правила, которые мы используем для взаимодействия друг с другом, в лучшую или худшую сторону.
Теперь давайте взглянем на другую территорию, Карибы. Увеличим на Гаити. По контурам тут. На Гаити также темно по сравнению с ее соседом здесь, Доминиканской республикой, в которой примерно такое же количество жителей. В обеих странах темно по сравнению с Пуэрто-Рико, в которой жителей вдвое меньше, чем в Гаити или Доминиканской республике. Гаити предупреждает нас о том, что правила могут быть плохими из-за слабого государства. Правила плохие не просто потому, что государство слишком сильное и деспотичное, как в Северной Корее. Поэтому, если мы хотим создать среду с хорошими правилами, мы не можем просто ломать и крушить. Мы также должны найти способ создавать.
Вот, Китай впечатляюще показывает и возможности, и трудности работы с правилами. Там, где начинаются данные, представленные на этом графике, Китай был мировым лидером по высоким технологиям. Китайцы первыми исследовали такие технологии, как сталь, печать, порох. Но китайцы никогда не принимали, по крайней мере в этот период, эффективных правил, способствующих распространению этих идей, стимулов к получению прибыли, которые помогли бы распространению. И они скоро приняли правила, которые затормозили инновации и отрезали Китай от остального мира. И в то время как другие страны мира создавали инновации, и в смысле создания новых технологий, и в смысле создания новых правил, китайцы оставались отрезанными от этих достижений. Доход там оставался неизменным, в то время как в остальном мире он увеличивался.
Этот последний график отображает последние данные. Он показывает доход. Средний доход в Китае в процентах от среднего дохода в Соединенных Штатах. В 50-х и 60-х, как вы можете видеть, он колебался в районе 3%. Но затем в конце 70-х что-то изменилось. В Китае начался стремительный рост. Китайцы стали догонять США очень быстро.
Если вы вернетесь к ночной карте, вы поймете, что за процесс привел к резкому изменению правил в Китае. Самая яркая точка в Китае, которую вы можете увидеть на краю очертания здесь — Гонконг. Гонконг — это маленький кусочек Китая, который большую часть ХХ века функционировал согласно набору правил, сильно отличающемуся от остального континентального Китая. Правил, которые были скопированы с работающих рыночных экономик того времени, и которые обеспечивались англичанами.
В 1950-х Гонконг был местом, куда могли уйти миллионы людей с континента, чтобы браться за такую работу, как шитье футболок и изготовление игрушек. Процесс быстрого роста зарплат, улучшения навыков привел там к очень быстрому росту. Гонконг был также моделью, которую такие лидеры, как Дэн Сяопин, могли скопировать, когда они решили приводить весь континентальный Китай к модели рыночной экономики.
Но Дэн Сяопин интуитивно понимал важность выбора, предоставляемого своим людям. Поэтому в Китае вместо поголовного принуждения к немедленному переходу к рыночной модели они создали несколько специальных зон, которые могли делать в некотором роде то же самое, что и англичане, то есть создавать возможность работать по рыночным правилам людям, пожелавшим там жить. И они создали четыре специальные экономические зоны вокруг Гонконга. Зоны, в которые китайцы могли приходить и работать. И города там росли стремительно. Также это были и зоны, в которые могли приходить иностранные фирмы и делать там различные вещи.
В одной из зон рядом с Гонконгом есть город Шеньчжень. В этом городе есть тайваньская фирма, которая делает iPhone, которые наверняка есть у многих из вас. И делает их с помощью труда китайцев, которые перебрались в Шеньчжень. А после четырех специальных зон было 14 прибрежных городов, которые были открыты подобным образом, и которые в конечном счете показали успешность тех мест, в которые люди перебирались жить, в которые люди стекались благодаря преимуществам, предоставляемым ими. Продемонстрированные там успехи привели к согласованному решению — приведению к рыночной модели всей экономики.
Теперь китайский пример показателен по нескольким причинам. Во-первых: не отнимайте у людей выбор. Во-вторых: действуйте в правильном масштабе. Если вы попробуете изменить правила в деревне, вы можете так поступить. Но деревня будет слишком мала для получения тех преимуществ, которые вы можете получить, имея в наличии миллионы людей, работающих в системе хороших правил. С другой стороны, народ — слишком велик. Если вы попробуете изменить правила для народа, вы не сможете предоставить некоторым людям шанс подождать, посмотреть, как пойдут дела, и позволить остальным пойти дальше и попробовать новые правила. А города дают вам такую возможность создавать новые места с новыми правилами, которые люди согласятся принять. И они достаточно большие для получения всех преимуществ, которые мы имеем, когда миллионы работают вместе по хорошим правилам.
Таким образом предложение состоит в том, что мы даем начало чему-то, называемому привилегированным городом. Мы начинаем с Документа, который точно указывает все необходимые правила для привлечения людей, которые нам нужны для строительства города. Нам понадобится привлечь инвесторов, которые построят инфраструктуру. Систему энергоснабжения, дороги, порт, аэропорт, здания. Вам понадобится привлечь фирмы, которые будут нанимать людей, которые первыми придут туда. И вам понадобится привлечь семьи, резидентов, которые переедут туда на постоянное жительство. Вырастить своих детей. Дать им образование. Дать им их первую работу.
При наличии такого Документа, люди поедут туда. Город может быть построен. И мы сможем увеличить масштаб. Мы сможем делать это снова и снова. Чтобы заставить эту схему работать, нам нужны будут хорошие правила. Мы уже обсудили это. Они должны быть прописаны в хартии. Нам также нужны альтернативы для людей. Это требование, на самом деле, встроено в модель, если мы допускаем возможность построения городов в ненаселенной местности. Вы начнете с ненаселенной территории. Люди могут приезжать жить согласно новой Хартии. Но никого не обязывают жить по ней. Последнее, что нам нужно, — альтернативы для лидеров.
И чтобы получить такую возможность выбора, которую мы хотим предоставить лидерам, нам понадобится допустить возможность партнерства между народами. Ситуации, когда народы работают вместе, в действительности, по факту, как Китай и Великобритания работали вместе, чтобы построить сначала первый анклав рыночной модели, а затем распространить ее по всему Китаю. По сути, Великобритания непреднамеренно, с помощью своих действий в Гонконге, сделала больше для сокращения мировой бедности, чем все программы финансовой помощи, которые мы предпринимали за последнее столетие. И если мы позволим таким партнерствам снова повторить этот опыт, мы сможем распространить эти преимущества на весь мир.
В некоторых случаях это будет включать в себя передачу ответственности, передачу контроля от одной страны другой для передачи определенных административных обязательств. И когда я так говорю, некоторые из вас начинают думать: «Хорошо, разве это не возвращение колониальной политики?» Нет. Но важно понимать, что такие эмоции, появляющиеся, когда мы начинаем задумываться об этих вещах, могут мешать, могут тормозить нас, могут заглушать нашу способность, и наш интерес к попыткам исследовать новые идеи.
Почему это не колониальная политика? Что плохого было в колониализме, и частично плохого в наших программах финансовой помощи, так это то, что они включали элементы принуждения и снисходительности. Суть этой модели — альтернативы. И для лидеров, и для людей, которые будут жить в этих новых местах. И выбор — это противоядие против принуждения и снисходительности.
Поэтому давайте поговорим о том, как подобное может быть реализовано на практике. Возьмем конкретного лидера, Рауля Кастро, лидера Кубы. Кастро наверняка приходило в голову, что у него есть шанс сделать для Кубы то же, что сделал Ден Сяопин для Китая. Но на острове Куба у него нет Гонконга. Хотя у него есть маленькая светлая точка на юге, имеющая очень особый статус. Там есть зона, вокруг Гуантанамо, где конвенция дает Соединенным Штатам административную ответственность за кусочек земли размером приблизительно вдвое больше Манхеттена.
Кастро пойдет к премьер-министру Канады и скажет: «Послушай, у янки огромные проблемы в отношениях с общественностью. Они хотят убраться оттуда. Почему бы вам, Канаде, не прийти на их место? Построить специальное место, управлять специальной административной зоной. Разрешить построить там новый город. Разрешить многим людям приехать туда. Устроить нам Гонконг поблизости. Некоторые мои граждане также переедут в этот город. Остальные останутся. Но это будут ворота, соединяющие современную экономику и современный мир с моей страной».
А где еще может быть опробована данная модель? Например, Африка. Я говорил с лидерами в Африке. Многие из них отлично понимают концепцию специальной зоны, в которой люди могут участвовать, как в правиле. Это правило для смены правил. Это способ создания новых правил, и возможность людей участвовать без принуждения, и сопротивления, которое это принуждение может вызвать. Они также отлично понимают, что в некоторых случаях они могут давать более надежные обещания долгосрочным инвесторам. Инвесторам, которые придут строить порт, строить дороги, в новом городе.
Они смогут дать надежные обещания, если они сделают это наряду с нацией-партнером. Возможно, даже в некотором соглашении напоминающем немного счет, который находится в руках третьей стороны Соглашении, в котором вы «кладете» землю на счет, а нация-партнер берет на себя ответственность за нее. Также в Африке огромное количество мест, где могут быть построены новые города. Это фотография, которую я сделал, когда пролетал над побережьем. Есть необъятные просторы земли, как на этой фотографии, земли, где миллионы людей могли бы жить. Теперь, если мы обобщим это и подумаем не только об одном или двух городах хартий, но множестве. Городах, которые смогут помочь создать места для многих сотен миллионов, возможно миллиардов людей, которые переедут в города в следующем веке.
Достаточно ли земли для них? Ну, если повсюду в мире, если мы окинем взглядом светлые точки ночью, из-за обмана зрения кажется, будто большая часть мира уже застроена. Но позвольте мне показать, почему это неправда. Возьмем такое представление всей суши. Превратим это в квадрат, который соответствует всей пахотной земле на планете. И пусть эти точки представляют собой землю, которая уже занята городами, в которых сейчас живет 3 млрд человек. Если переместить точки на дно прямоугольника, вы сможете увидеть, что города с существующим трехмиллиардным городским населением занимает всего 3% всей пахотной земли.
И если бы мы хотели построить города для еще одного миллиарда человек, были бы еще точки, подобные этой. Мы бы перешли от 3% пахотных земель к 4%. Мы бы существенно уменьшили зону проживания людей на Земле, строя больше городов, в которые люди смогли бы переезжать. И если эти города управляются согласно хорошим правилам, они могут быть городами, в которых люди свободны от преступности, свободны от болезней и плохой санитарии, где у людей есть шанс найти работу. Они могут получить базовые услуги, такие как электричество. Их дети смогут получить образование.
Так что же потребуется для того, чтобы начать строить первые города хартий, масштабируя их так, чтобы мы строили еще и еще? Хорошо было бы иметь руководство. Что может сделать университетский профессор — описать некоторые детали, которые могли бы попасть в это руководство. Вы не захотите позволить нам управлять городами, выходить и создавать их. Вы не захотите пустить академиков «на волю».
Но вы можете поручить нам думать о таких вопросах, как, предположим, не только Канада договаривается с Раулем Кастро. Возможно Бразилия также выступает в качестве участника. А также Испания. И, возможно, Куба захочет быть одним из партнеров в четырехстороннем совместном предприятии. Как бы мы записали такое соглашение? Было мало прецедентов. Но это можно сделать довольно легко.
Как мы профинансируем это? Оказывается, Сингапур и Гонконг — города, которые получили огромную прибыль со стоимости той земли, которая была в их распоряжении, когда они начинали. Вы можете использовать эту прибыль со стоимости земли для платы за такие услуги, как полиция, суды. А также школьное образование и здравоохранение. Которые сделают это более привлекательным местом проживания. Сделают это местом, где люди получают высокие зарплаты. Которое, в этой связи, делает землю более ценной. Потому стимулы людей, помогающих конструировать эту зону, строить ее и устанавливать базовые правила, будут правильные.
И есть еще множество деталей, подобных этой. Как мы могли бы получить строения, малозатратные и доступные для людей, которые работают на первой работе, собирая что-нибудь вроде iPhone? Но сделать эти здания энергоэффективными. И убедиться, что они безопасны и не развалятся при землетрясении или урагане. Много технических деталей нужно будет проработать. Но те из вас, кто уже начал достигать этих целей, уже могут сказать, что нет проблем, нет препятствий, кроме плохого воображения, которые не позволили бы нам реализовать действительно глобальное, выгодное всем решение.
Позвольте мне закончить на этой фотографии. Причина, по которой мы все можем жить настолько лучше, даже несмотря на огромное количество людей на Земле, — могущество идей. Мы можем делиться идеями с другими людьми, и когда они открывают новые идеи, они делятся с нами. Это не ограниченный ресурс, при делении которого каждый из нас получает меньше. Когда мы делимся идеями, мы все получаем больше. Когда мы думаем об идеях таким образом, мы обычно думаем о технологиях.
Но есть и другой класс идей. Правила, которые управляют тем, как мы взаимодействуем друг с другом. Правила, такие, как налоговая система, которая поддерживает исследовательский университет, который раздает определенные виды знаний бесплатно. Пусть у нас будет система, при которой будет частная собственность на землю, зарегистрированную в государственном учреждении, которую люди смогут закладывать как залог.
Если мы сможем продолжить создавать инновации в пространстве правил и особенно создавать инновации в смысле создания правил для изменения правил, чтобы мы не застряли в ловушке с плохими правилами, тогда мы сможем и дальше двигать прогресс вперед и действительно делать этот мир лучше, чтобы таким людям, как Нельсон и его друзья, не приходилось больше учиться при свете уличных фонарей.
Спасибо.
Перевод: Николай Фролов
14.07.18
Известный шведский футуролог Кьелл Нордстрем выступил в Киеве 9 июля с лекцией Thinking BIG перед украинским бизнесом. Я записал основные тезисы его трехчасовой лекции.
Шведский ученый выступал в своей традиционной манере без галстука, постоянно перемещаясь между столами с публикой и провоцируя ее на различные вопросы.
Пол Ромер: Будущее за городами хартий
Кьелл Нордстрем: К 2030 году вместо 28 стран ЕС будут 50 мощных экономических хабов
Юрий Романенко, Украинский институт будущего, "Хвиля"

Основные идеи:
- Facebook является машиной, которая воспроизводится в глобальном масштабе.
- Чем меньше мы друг друга знаем, тем больше мы друг друга любим.
- Будущего нет, потому его нельзя исследовать сегодня.
- Технологии будут определять будущее. Любая технология является «замороженным знанием» человечества.
- Технологии, с которыми мы сейчас работаем в 300 раз мощнее и в 10 раз быстрее, т.е. в общем в 3000 раз мощнее, чем технологии 150-200 летней давности.
- Обезьяна и человек похожи на 97-98%, но принципиальное отличие заключается в том, что люди могут фантазировать.
- Сегодня на планете живет 7,2 млрд человек. Через 30 лет население планеты будет составлять около 9 млрд человек, где 5 млрд будет проживать в Азии, 1 млрд в Европе, 1 млрд в Америках и около 2-3 млрд в Африке.
- Рождаемость снижается по всей планете. Сегодня даже в Эфиопии средний индекс фертильности 1,7. Уровень воспроизводства 2,1-2,2
- Общий курс ЕС после выхода из Великобритании не изменится.
- Все, что исходит из США является конкретно американской историей, которую невозможно повторить за их пределами. США — это не страна и никогда не были страной. США — это идея, которая изложена в Конституции на 11 страницах. Любой в мире может стать американцем, если разделяет идею. Чтобы стать немцем нужно, чтобы прожило четыре поколения. Или попробуйте стать курдом….
- Будущее человечества в ближайшие 20-35-30 лет будет определять матрица 3D — капитализм, урбанизация, дигитализация [перевод информации в цифровую форму].
Капитализм
Сейчас около 200 стран на планете и все они, кроме одной, капиталистические. В будущем альтернатива капитализму вряд ли способна появиться. Капитализм — это как глобальный язык, который отличается нюансами от страны к стране.
Что такое капитализм как система?
Это машина, способная выполнять всего одну функцию. Капитализм может сортировать все вещи, все, что угодно по одному критерию — эффективности. Капитализм отсортирует все, что угодно по этому критерию.
Урбанизация
Мы находимся в начале самой быстрой урбанизации в истории человечества. Мы трансформируемся от 200 государств к 600 глобальных городов, в которых будут жить около 80-85% населения. Сегодня в городах живет 60-61% населения планеты. При этом 600 глобальных городов будут генерировать 90-95% мирового ВВП. В Японии сегодня в агломерации Токио уже проживает 37,4 млн. человек.
Через 30 лет вся Швеция будет жить в агломерации Стокгольм- Гетеборг-Мальме. Австрии не будет, а будет Вена. Все идет в этом направлении, хотя еще 15 лет назад многие аналитики говорили, что города будут расселяться из-за технологического прорыва к коммуникациях. Сегодня мы видим, что чем больше развивается технологическая революция, тем больше населения перебирается в города. Это я называю массивным парадоксом.
Он приведет к тому, что, скажем, к 2030 году будет другая Европа, где вместо 28 стран будут 50 мощных экономических хабов.
Поэтому мы будем жить на 1,5% территории нашей планеты, как сегодня большая часть населения Кении живет в Найроби. Естественно, это кардинальным образом изменит все: политику, экономику, социальные отношения. Мэр, а не премьер-министр будет решать все. Лондон уже сейчас составляет 36% экономики Великобритании. Лондон сегодня разросся до Оксфорда, который является парковой зоной в черте столицы Великобритании. Санкт-Петербург и Москва — 60% экономики России.
Дигитализация
Все, что можно оцифровать будет оцифровано и скопировано. Интернет — это большая копировальная машина. Мы постоянно делимся базой знаний.
Следствие: Зарабатывать деньги в рыночной экономике можно будет, когда вы создаете временную монополию. Без монополии нет денег. Я ненавижу IKEA [транснациональная компания, основанная в Швеции в 1943 году], но нравится или нет, но все, что нам нужно есть в IKEA. Есть IKEA и все. Не существует IKEA №2.
- Айфон, виагра — это примеры временных монополий.
- Идея — временная монополия — внедрение и реализация
- Срок жизни временных монополий постоянно уменьшается.
- Или — или не получится. Simiens пример вечно второй компании, чтобы они не делали.
Никогда в истории человечества не было так мало погибших в конфликтах. Количество убитых криминалитетом также стремительно снижается, особенно в городах. Мы становимся настолько взаимосвязаны, что больших конфликтов стараются избегать. Агрессор делает какую-то маленькую гадость, потому что иначе ему вернется зло назад большими проблемами.
Городская среда более дружелюбна к мигрантам. Лучше быть мигрантом в Париже, чем за пределами Парижа.
Набирает силу процесс деглобализации. Все больше крупных компаний сосредотачиваются на конкретном регионе. Например, Tesco уже ничего серьезного за пределами Великобритании не делает. Немецкие компании будут больше зарабатывать в Германии, чем за ее пределами. Uber уходит из России, но это сейчас. Нужно честно сказать, что мы до конца не знаем, что происходит.
Будет усиливаться децентрализация в медицине. Пациентов будет проще содержать дома, чем в больницах.
Уже через 10-15 лет резко вырастет роль возобновляемой энергетики, а нефть и газ не будут играть такую роль.
Влияние матрицы
Четыре базовых процесса:
- Удвоение знаний
- Эксперименты в мультиполярном мире
- Переход от прямых знаний к косвенным
- Удешевление транзакций
1. Каждые 26 месяцев удваивается объем данных — это так называемый логарифмический рост. Проблема в том, что наш мозг при этом остается таким же. Мы тупеем из-за этого каждый день, поскольку не успеваем за удвоением знаний. Это касается не только личностей, но и компаний.
Следствие: Нам придется реорганизовать систему образования. Сегодня дети учатся более чем до 20 лет, а потом живут с этими знаниями до 80-90 лет.
На смену придет модульная система образования. Обучение 3 месяца, потом работа года. Потом все по новой.
Мы будем учиться по чуть-чуть, но постоянно на протяжении всей жизни.
Будет усиливаться кооперация, выигрывать как раз будут те, кто быстрее и лучше будут способны создавать альянсы. Например, в Европе университеты создают альянсы, и студенты во время обучения идут из одного университета в другой. В финале он получает диплом альянса университетов.
2. Мультиполярный мир приведет к созданию хаотичных систем второго порядка. Поэтому мы будем все больше экспериментировать и делать все меньше планов. Если вы стараетесь производить телефоны, то забудьте о планировании, ибо пока вы допишете план разработки, технологии поменяются уже 200 раз. В новой реальности нужно идти методами проб и ошибок. Планирование в таком мире — это как танцы под дождем в Африке.
3. Есть два типа знанийАртикулированные знания — знания, которые можно записать или скопировать. Раньше такие знания давали возможность печатать деньги. Вы получали диплома MBA и сразу могли начинать печатать деньги и успех в жизни.
Имплицитные, неявные знания — знания которые вы получаете от Мастера, Учителя. Мы знаем больше, чем можем выразить. При получении таких знаний важно близко стоять к Мастеру. Здесь нужен наставник. Если вы хотите обучаться высокой моде, то должны ехать в Милан. Если вы хотите достигнуть топовых позиций в IT, то вам нужно ехать в Силиконовую долину, чтобы общаться с кем-то близким по духу. Например, Nokia так и не смогла интегрироваться в Силиконовую долину.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли учиться в университетах, Нордстрем сказал, что во-первых, есть дифференциация между университетами, потому что нужно выбирать те, что более качественные. Во-вторых, нужно учиться в любом случае, потому что в любом случае знания расширяют ваши возможности к адаптации к реалиям. Предмет вашей трудовой деятельности может измениться, но если вы умеете работать научными методами, то вы сможете адаптировать к новой ситуации.
4. Матрица капитализма, урбанизации и дигитализации постоянно уменьшает транзакции, т.е. стоимость операций.
Будут увеличиваться роль агрегаторов. Например, вы куда-то едете отдыхать и бронируете гостиницу или жилье через Booking. Вы получаете сразу HR-код, приходите на место, показываете его сканеру и заходите в жилье. Рецепция [стойка администратора] в гостиницах отомрет.
Многие бренды будут существенно изменяться, например, рестораны. Вас будет интересовать хорошая еда, а не бренд. И вы ее будете получать.
В городах будет жить все больше женщин, чем мужчин. Городская среда феминизируется. Например, 60% населения Алма-Аты составляют женщины.
В Норвегии в 2003 году в университетах женщины составляли 50/50. Сегодня в Норвегии и Швеции женщин в университетах 67%, мужчин — 33%. Женщины учатся лучше мужчин.
Современная семья состоит из одного человека:
- В Амстердаме — 59% одиночки
- В Лондоне — 49%.
- В Нью-Йорке — 46%
- В Осло — 77%.
В Токио, Чунцине и Сингапуре значительное количество взрослых людей не ходят на свидание. Правительство Сингапура субсидирует хождение на свидание.
Семьи в нашем понимании становятся меньшинством.
Китай — это 112 городов, которые яростно конкурируют друг с другом. США — это также набор городов.
Для того, чтобы знать литературу достаточно прочитать 26 книг, все остальные — это копии сюжетов. Это сказал профессор Чикагского университета Гарольд Блюн (найдите его список).
Одной из наиболее актуальных проблем будет борьба за оригинальность в мире одинаковости.
Все компании движутся между двумя китами — созидание и эксплуатация.
В Дании, где самые счастливые люди живут в мире, налоговая нагрузка составляет 55%. Все платят и все очень счастливы. Счастье — это форма социальной организации. Есть прямая корреляция между счастьем человека и организацией общества.
Директивы из Брюсселя по поводу регулирования Интернета — это только начало. Интернет будет все более регулируемым.
Экраны для нашего мозга — как сахар для организма. Слишком много удовольствия для человека. Специалисты рекомендуют проводить перед экраном не более часа времени.
Знания — это таблетка, которая запускает социальные трансфоормации. В 50-е годы прошлого века изобрели контрацептивы, в 1963 году их запустили на рынок, а в 1968 году произошла сексуальная революция.
Мы будем переходить на создание мяса и молока без животных. 40% CO2 производят фермы с крупным животными, которых выращивают на мясо. Если хотите уменьшить загрязнение, то перестаньте питаться мясом. Мясо, а не автомобили загрязняют воздух больше.
Самый большой производитель с/х продукции — США, а на втором месте маленькие Нидерланды.
Именно в с/х в ближайшие годы будут происходить грандиозные изменения.
В космосе не произойдет что-то принципиально новое при нашей жизни.
Совет бизнесу: Ищите отношения, а не навыки. Нанимайте людей за отношение, а не за навыки. Знания можно исправить. Важны мотивации людей к совершенствованию, а остальное мы пофиксим [fix - исправить].
Пути развития общества
18 Авг 2017
https://naroborona.info/2017/08/18/puti-razvitiya-obshhestva/
Современные политические силы, по инерции, продолжают оперировать понятиями 19 и 20 века. Выстраивать свою повестку по отношению к СССР, организации труда в индустриальном обществе и прочее. Между тем сегодня мы переживаем эпоху смены способа производства, когда наемный труд (и капитализм) станут неактуальны в результате автоматизации производства. Всё большее количество стран уже начинают сталкиваться с этой проблемой. Мы уже неоднократно обозначали её — если роботы вытеснят людей из всех сфер труда, то это приведет, с одной стороны, к переизбытку товаров, поскольку роботы производят их дешевле, качественнее и в большем количестве. А с другой стороны — к неспособности людей, потерявших работу, приобрести эти товары. Капиталистическая схема, когда человек работает на капиталиста, получает за это вознаграждение, а затем тратит его на покупку благ, производимых такими же наемными рабочими, будет более невозможна. Значит, речь идёт о смене всей экономической системы современного общества. Ответы старых идеологий, как организовать общество, более не актуальны, поскольку основной вопрос теперь совершенно иной — кому будут принадлежать роботы и как будут распределяться результаты их труда? Попробуем немного пофантазировать и представить возможные альтернативы и решения этой проблемы. Конечно, помимо описанных вариантов возможны и иные сценарии, вроде прогнозируемой некоторыми полной роботизации уже не производства, но самого человека. Но этот сценарий еще слишком далёкий.
1) Социал-демократический вариант, наиболее вероятный на сегодняшний день в западном мире. Во многих странах уже всерьез начинают задумываться о налоге на использование роботов в бизнесе. Такие идеи высказывают, например, в США и Южной Корее. И даже многие миллиардеры — такие, как Билл Гейтс. Налог с роботов должен обеспечивать бюджет государства и идти на социальные программы поддержки безработных. То есть экономика при таком варианте будет выглядеть следующим образом: сохраняются формально частная собственность на средства производства, рыночные отношения. Большую часть работ выполняют роботы, принадлежащие капиталистам. Однако фактически роботы своим трудом спонсируют нужды государства и обеспечивают граждан, оставшихся без работы. Значительная часть прибыли корпораций уходит на эти нужды. Образцовая социал-демократическая утопия, при которой капиталист уже выступает даже не столько эксплуататором, сколько лишь организатором производственного процесса. Товары дешевы, граждане получают деньги просто за то, что роботы работают, государство перераспределяет деньги от корпораций к обществу.
2) Технократический вариант, реинкарнация тоталитарных режимов 20 века в новых условиях, представляющий из себя диктат государства над экономикой, политикой и обществом. Государство берет контроль над роботизированным производством в свои руки, у руля становятся всевозможные “грамотные люди” — инженеры, ученые, экономисты и прочие специалисты, которые управляют производством и обществом как большой корпорацией. В распределительном плане возможен полный уход от рыночной экономики и сбор информации о потребностях граждан при помощи сложных компьютеризированных систем наподобие чилийского “Киберсина”. Система определяет потребности граждан и распределяет между ними производимые роботами блага. Утопия плановой экономики. В целях повышения эффективности такой системы возможна передача части политической власти даже не столько “грамотным людям”, сколько искусственному интеллекту. Например, ИИ может выносить решения по судебным делам, осуществлять исполнительную власть, координировать работу правоохранительных органов и т.д.
3) Неокапиталистический вариант. Если вследствии роботизации производства большая часть человечества становится ненужной экономике, а обслуживание такого большого количества живущих ныне людей потребляет слишком много ресурсов, то может показаться логичным, что нужно сокращать население Земли. В интересах владельцев средств производства, конечно. Ну зачем теперь капиталисту семь миллиардов ненужной рабочей силы? Что с ними делать? Они совершенно не нужны экономике. А роботы могут обеспечить райское существование и не слишком большому количеству людей. И капиталисты могут прийти к мысли, что с большинством населения следует распрощаться. Сделано это может быть как посредством массового геноцида, так и через долгоиграющие социальные стратегии. Оставить людей просто безработными и ждать, что они вымрут сами – это, конечно, не вариант, так скорее дождешься революции. А если принимать социальные программы, запрещающие несостоятельным людям заводить детей, или выплачивать пособия людям, прошедшим добровольную стерилизацию? Посредством таких программ можно в течение нескольких поколений радикально сократить население Земли, ограничив его лишь элитой, владеющей роботами, и небольшим количеством технического и научного персонала. Вот она, идеальная капиталистическая демократия собственников. Роботы трудятся и обеспечивают своих владельцев, поделивших между собой планету, которая постепенно зализывает раны.
4) Неолуддистский вариант. Естественно, угроза роботизации может вызвать к жизни массовые низовые движения, выступающие против технического прогресса. “Они воруют наши рабочие места”, — это про роботов. Неолуддизм идеологически может иметь самые разные окраски: зеленую, выступающую в защиту окружающей среды; клерикальную, выступающую против безбожных технологий; традиционалистскую, выступающую за сохранение “скреп” и традиционного образа жизни; гуманистическую, выступающую против улучшения человека при помощи новых технологий — на генном уровне или посредством различных имплантантов; социальную, ратующую за рабочие места для людей… В условиях массовой безработицы и дальнейшего наступления роботизации такие движения могут стать довольно массовыми и привести к власти различных популистов — правых или левых. Новые власти развернут борьбу с роботизацией, прогрессом и прочими прелестями дивного нового мира. Попытаются сделать как было, вернуть старое доброе индустриальное общество — в общем, “сделать Землю великой опять”. Нужно ли говорить, что это приведет лишь к застою, деградации, диктатуре, расцвету самых мракобесных и реакционных настроений, экономическому и экологическому краху?
5) Радикально-демократический вариант, продолжающий традиции анархизма. При помощи современных технологий вполне возможно создание идеальной “цифровой демократии”, когда все решения принимались бы всеми гражданами через районные собрания и различные площадки в интернете, приспособленные под обсуждения и голосования. Экономика в таком обществе может быть “плановой” безденежной, но в более демократическом варианте, нежели казарменное распределение. Граждане могут делать заказы на необходимые им товары в интернете на специальных сайтах, подобных нынешним интернет-магазинам. ИИ обрабатывает заказы и представляет план роботизированному производству, после чего заказы доставляются заказчикам через районные центры распределения. Идеально такую модель дополняют 3D-принтеры, при помощи которых каждый может удовлетворить и индивидуальные потребности, которые не смогло бы удовлетворить массовое роботизированное производство.
6) Корпоративистский вариант, воплощающий в жизнь сценарии киберпанка. Политическая власть всё более сосредотачивается в руках корпораций, а не правительств, которые и ведут борьбу друг с другом за ресурсы. Экономика, подчиненная единому центру — корпорации — уже не является в привычном смысле “рыночной”, более напоминая плановые варианты, хотя и ориентированные на получение максимальной прибыли. Что остаётся при таком варианте простым людям? В производстве или сфере обслуживания они не нужны, там всю работу выполняют роботы. И даже как пушечное мясо в корпоративных войнах не сгодятся — война, скорее всего, станет уделом профессионалов, массовые армии прошлых веков будут забыты. Вместо них — небольшие отряды тренированных и улучшенных технически и генетически солдат, вооруженных новейшей техникой и поддерживаемых всевозможными боевыми роботами и беспилотниками. Помочь в такой ситуации может только значительное расширение среднего класса за счет увеличения спроса корпорациями на всевозможных инженеров и ученых. Но огромная масса безработных низов будет создавать постоянный источник социального напряжения, который будет находить выход в высоком уровне преступности и революционной угрозе, упомянутых выше неолуддистских движениях.